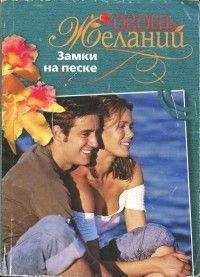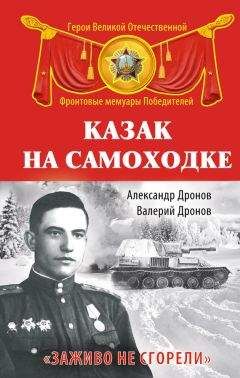Анета и Лизета в вырезных платьях с кружевными, в четыре яруса, воланами на рукавах, с большими бантами и маленькими, искусно из шелка сделанными розами на корсажах, с высоко подобранными удивительной белизны волосами и в пышных юбках, которые с трудом поместились в карете, из-за чего обе танцорки очень беспокоились и поминутно затевали возню с охорашиванием.
ГРАФ. А что Сумарокову на ум взошло! Ввек не догадаешься!
ПЕТРОВ. Оду новую, поди, затеял? Зря он это. Его песни лучше од. Вон и Анета с Лизетой подтвердят.
АНЕТА. Нам до од мало дела. Вот коли бы он мне в балетном представлении роль сочинил — это бы лучше всего! У нас «Суд Париса» нынче ставить решили. Так мне опять амурчика танцевать выпало — а нас, амурчиков, там дюжина!
ГРАФ. Да как же сочинять-то? Ногам слов не полагается! А какие тебе антраша отбивать — это пускай мусью Фузано придумывает, на то его из Италии выписали.
ЛИЗЕТА. Этот придумает! Такую прыготню развел и вертеж непрестанный! Суета бестолковая, а прежней тонности в танце уж и нет.
ГРАФ. Тебе бы все в менуэтах плыть, как при покойной государыне. Да и на что они, танцы, с твоей-то пышностью? Петь выучилась — ну так и пой.
Лизета, обидевшись, отвернулась, и обе они с Анетой укрылись за веерами, беззвучно перешептываясь.
ПЕТРОВ. Так что Сумароков?
ГРАФ. Ты Лукиановы беседы читал? Так он то же самое задумал на русский лад написать.
ПЕТРОВ. Римские разговоры — на русский лад?
ГРАФ. Ну, не совсем на русский. Для нашей словесности, да и для меня самого разговоры мертвых...
АНЕТА. Я от тебя падаю! Вот ты уж и в разговоры с мертвецами пустился!
ГРАФ. Не я, душенька, — господин Сумароков! А до него — римлянин Лукиан! Вот представь — померли барин со слугой, на том свете очнулись, а еще того не разумеют, что они...
ПЕТРОВ. В раю, что ли?
АНЕТА. В аду! У них, у сочинителей, все господа нехороши. Куда же господину, как не в ад? А слуга — за ним.
ГРАФ. Да то-то и оно, что у Лукиана не рай и не ад, а Елисейские поля. Там, поди, иного дела душам нет, кроме как беседовать. Или вот читал он мне, как там медик со стихотворцем встречаются, один другого краше...
ПЕТРОВ. Таким, как он, в народе говорят — ври, да не завирайся. Нам, поди, Елисейских полей не полагается.
ГРАФ. Да будет тебе проповедовать! Никто у нас нашей православной веры не отнимает, и сочинительство ее не поколеблет. Вон ты про Амура и про Венеру поешь — так что же, это — грех? А наутро ты уж в храме Божьем на литургии поешь — так и то ведь не подвиг! Тебе за твое церковное пение деньги платят. И государыня всегда отмечает.
Полковник Петров внезапно откинулся на спинку каретного сиденья и взялся рукой за лоб.
АНЕТА. Что это с тобой, монкьор? Вертижи приключились?
ЛИЗЕТА. Перекрести его скорее, друг Анета, оно и пройдет!
ПЕТРОВ. Уж и прошло... С утра сегодня сам не свой. Как только спевку продержался?
ГРАФ. Ты доктора-немца вели позвать, коли у вас на Васильевском сыщется. Теперь по Петербургу новое поветрие ходит — в одночасье может человека скрутить. И на Елисейские поля!
АНЕТА. Спаси и сохрани!
Она меленько перекрестилась.
ПЕТРОВ. Да будет вам меня хоронить! Коли его сиятельство меня до дому довезти изволит — брусничной водой отопьюсь.
АНЕТА. Брусничная вода и поближе найдется.
И вновь обе танцорки, укрывшись за веерами, стали перешептываться. Одновременно и граф сделал мановение руки, повелевающее полковнику Петрову приблизиться к нему на расстояние шепота.
ГРАФ. Дурак будешь, коли упустишь...
ПЕТРОВ. О чем вы, ваше сиятельство?
ГРАФ. Анетку упустишь. А она за тобой так и машет...
ПЕТРОВ. Да Бог с ней, на что мне?..
ГРАФ. Доподлинно дурак.
ЛИЗЕТА. Коли Андрею Федоровичу нездоровится, так ему бы на заднее сиденье лучше пересесть, на переднем и точно голова как не своя. А я бы к вашему сиятельству села. Пусти-ка, друг Анета! А ты, монкьор, сюда пропихивайся!
ГРАФ. Ручку позволь, сударыня!
Лизета, не удержавшись, упала прямо ему на колени.
ГРАФ. Вот для чего все это затевалось!
И стал шептать на ухо Лизете такое, что она расхохоталась.
ЛИЗЕТА. Куда как ты славен, монкьор! Да ты уморил меня!
Теперь Лизета принялась нашептывать графу на ухо.
АНЕТА. А что ты, сударь, к концерту готовишь? Сказывали — Сумароков новую песню сочинил да тебе и отдал. А ты ни с кем и не поделишься!
ПЕТРОВ. Да что делиться — для мужского голоса.
ГРАФ. Драгунская, что ли?
И он запел, дирижируя сжатым кулаком, но фальшивя немилосердно:
Прости, моя любезная, мой свет, прости,
Мне велено назавтрее в поход идти!
Полковник Петров в комическом ужасе схватился за уши, а Лизета, очевидно, любившая хорошее пение, замахала на исполнителя сложенным веером, дорогим, французским, из слоновой кости и шелка, с блестками и кисточкой.
ПЕТРОВ. Ну уж нет! Сначала, сначала, а вы подхватывайте!
Петров запел, тоже дирижируя, и после первых двух строк к нему присоединилась Лизета:
Прости, моя любезная, мой свет, прости,
Мне велено назавтрее в поход идти!
Неведомо мне то, увижусь ли с тобой,
Ин ты хотя в последний раз побудь со мной!
Пока полковник Петров говорил — Анета еще держала себя в руках, стоило запеть лихую песню — так и рванулась к певцу.
Присоединился и граф, негромко, зато очень старательно.
Когда умру, умру я там с ружьем в руках,
Разя и защищаяся, не знав, что страх.
Услышишь ты, что я не робок в поле был,
Дрался с такой горячностью, с какой любил!
Покинь тоску, иль смертный рок меня унес?
Не плачь о мне, прекрасная...
Тут полковнику Петрову опять сделалось нехорошо, он махнул рукой, как бы прося прекратить песню, и сам замолчал.
ГРАФ. ...не лей ты слез!..
АНЕТА. Да что с тобой, монкьор?