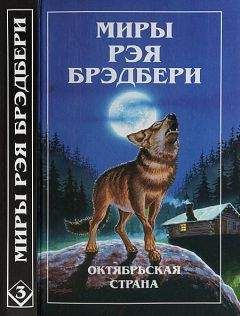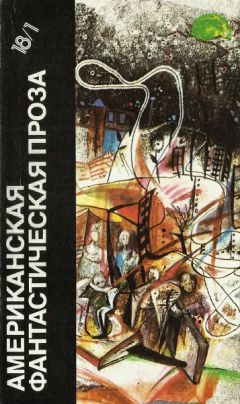Мать стояла внизу, у подножия, и ждала его с широко распростертыми объятиями.
Эдвин лежал на освещенной лунным светом кровати и задумчиво вертел в руках Попрыгунчика. Он даже не видел его — пальцы двигались на ощупь. Крышка все не открывалась.
Надо же, завтра у него день рождения. Но почему? Что, он так уж хорошо себя вел? Да нет. Почему же тогда день рождения будет раньше?
Потому что все… как бы это сказать… всполошилось? Ничего не понять, не разобрать — словно все время темнота и этот мерцающий лунный свет. И у матери такой странный вид — будто невидимая снежная вуаль на лице. Наверное, для нее этот праздник тоже вроде спасения.
— Теперь, — сказал Эдвин, обращаясь к потолку, — все мои дни рождения пойдут быстрее. Это уж наверняка. Мама так смеялась вместе со мной, и глаза у нее так блестели…
Интересно, а пригласят ли на праздник Учительницу? Скорее всего, нет. Ведь мама и Учительница даже не знакомы. «Но почему?» — спрашивал Эдвин. «А вот потому», — отвечала мама. «А вы разве не хотите познакомиться с моей мамой, Учительница?» «Как-нибудь потом… — почти шепотом отвечала та — словно сдувала с губ невидимую паутину. — Как-нибудь… потом…»
А куда же Учительница уходит на ночь? Может, она проходит сквозь все тайные горные пределы и поднимается наверх, к самой луне, где только пыльные, никому не нужные канделябры? А может, она идет ночью за деревья, которые растут за другими деревьями — теми, которые растут еще за другими деревьями? Ну нет, это уж вряд ли!
Вспотевшие пальцы продолжали вертеть игрушку.
А в прошлом году — когда начались всякие непонятности… Тогда ведь мама тоже передвинула день рождения на несколько месяцев назад. Да-да-да, так оно и было.
Лучше подумать о чем-нибудь другом. Например, о Боге. О Боге, который выстроил погруженный в вечную ночь подвал и залитую солнцем мансарду — и все остальное, что лежит между ними. О Боге, который погиб, раздавленный страшным жуком — там, за стеной. Наверное, все Миры тогда содрогнулись!
Эдвин поднес Попрыгунчика к самому носу и зашептал под крышку:
— Эй! Привет! Привет, привет…
Никакого ответа — только напряженное молчание сдавленной пружины.
Нет уж, хватит! Все равно я тебя вытащу. Погоди только, немножко погоди. Может, это и больно — но по-другому никак не получается. Сейчас…
Эдвин вылез из кровати и подошел к окну. Высунувшись чуть ли не по пояс, он посмотрел вниз, на мерцающую в лунном свете мраморную дорожку. Затем поднял коробку высоко над головой… Он сжимал ее так крепко, что занемели пальцы, а по ребрам, щекоча, сбежала струйка пота. Наконец, с криком разжав руку, Эдвин выбросил шкатулку из окна. Было видно, как она, кувыркаясь, полетела вниз — и летела долго-долго, пока наконец не ударилась о мраморный тротуар.
Эдвин высунулся из окна еще больше, тяжело дыша и изо всех сил вглядываясь в кружевную тень деревьев на земле.
— Ну, где ты? — выкрикнул он. — Где? Эй, ты!
Эхо его голоса растаяло вдалеке. Коробка с Попрыгунчиком лежала внизу. Эдвин так и не смог разглядеть — раскрылась она от удара или нет, вырвался ли наружу улыбающийся чертик? Если ему удалось выбраться из своего заточения, то, наверное, сейчас он раскачивается туда-сюда, туда-сюда, и должны звенеть его серебряные колокольчики…
Эдвин прислушался. Ничего. Целый час он вглядывался и вслушивался в темноту, пока вконец не устал и не лег снова.
Утро. Повсюду, а особенно в Кухонном Мире, слышны радостные голоса. Эдвин открыл глаза. Чьи же это голоса — чьи они могут быть? Каких-нибудь работников Бога? Или персонажей Дали? Но ведь мама не любит их… Голоса слились в общий гул и растаяли. Наступила тишина. А потом откуда-то издалека стали приближаться — все ближе, все громче, и еще громче — и наконец распахнулась дверь.
— С днем рождения!
Они танцевали, хрустели белоснежными пирожными, жмурясь, откусывали лимонное мороженое и запивали его розовым вином. На праздничном, усыпанном белой пудрой торте красовалось имя Эдвина. Мать садилась за пианино и, извлекая из него целую лавину звуков, пела веселые песни. Потом хватала Эдвина и тащила его куда-то еще, чтобы есть там клубнику, и опять пить вино, и смеяться — так громко, что дрожали канделябры. Наконец дело дошло до серебряного ключика, которым им предстояло отпереть четырнадцатую запретную дверь.
— Приготовились! Давай!
Дверь с шипеньем уехала прямо в стену.
— Ой! — невольно вырвалось у Эдвина.
Слишком уж трудно ему было скрыть разочарование — четырнадцатая комната оказалась обыкновенным пыльным чуланом. Разве такие комнаты открывались перед ним на прошлых годовщинах!..
На шестой день рождения ему подарили учебную комнату на Холмах. На седьмой — игровую комнату в Долине. На восьмой — музыкальный класс. На девятый — чудо-кухню с адским синим огнем. В десятой комнате шипели патефоны и фонографы, изредка завывая какую-нибудь мелодию — словно сонм призраков на прогулке. Одиннадцатая была алмазной комнатой-садом, где на полу лежал зеленый ковер, который не подметали, а подстригали!
— Не спеши огорчаться, лучше пошли! — Мать со смехом подтолкнула его в комнату-чулан. — Сейчас увидишь, что будет! Закрывай дверь!
Она нажала какую-то кнопку в стене — и кнопка сразу зажглась.
Эдвин пронзительно закричал:
— Не-е-ет!
Комнатка закачалась, загудела и клацнула дверьми, словно железными челюстями, поглотив Эдвина с мамой в свое чрево. Затем стена поехала вниз, а сама комнатка — вверх.
— Тише, моя радость, не бойся, — сказала мама. Дверь уже скрылась внизу, и теперь мимо проплывала голая стена — словно длиннющая шипящая змея с темными пятнами дверей. Одни двери… другие двери… третьи…
Комната все двигалась, а Эдвин все кричал и изо всех сил сжимал руку матери. Наконец чулан остановился и задрожал, словно прочищая горло перед тем, как их выплюнуть. Эдвин замолчал и тупо уставился на очередную дверь, а между тем мать сказала, что пора выходить. Дверь открылась.
Что же за тайна хранится за ней? Эдвин зажмурился.
— О-о-о! Холмы! Это же Холмы! Как мы тут оказались? Где же гостиная, а, мам? Где теперь гостиная?
Она вывела его из чулана.
— Мы просто подпрыгнули высоко вверх, прилетели. Теперь один раз в неделю ты будешь летать в школу, а не бегать, как всегда, по лестницам!
Эдвин был не в силах даже пошевелиться, завороженный этим новым чудом: страны сменяют одна другую, только что была нижняя, теперь — верхняя…
— Мамочка, мама! — только и смог воскликнуть он.