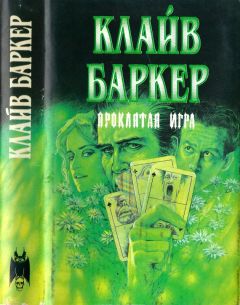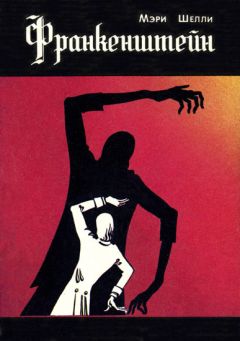— …это я сделала…
— Нет, Кэрис. Не ты. Это то, что должно было случиться, не вини себя.
Он взял ее бледное лицо в обе ладони. Он часто качал ее головку, когда она была ребенком, гордясь тем, что она была плодом Пилигрима. В тех объятиях он нянчил мощь, с которой она росла, чувствуя, что придет время — и она понадобится ему.
— Просто попроси открыть дверь, Кэрис. Скажи ему, что ты здесь, и он откроет тебе.
— Я не хочу… видеть его.
— Зато яхочу. Ты сделаешь мне великое одолжение. А когда все это закончится, тебе больше нечего будет бояться. Я обещаю тебе.
Казалось, она уловила во всем этом смысл.
— Дверь… — напомнил он.
— Да.
Он отпустил ее лицо, и она отвернулась от него, чтобы ступить на лестницу.
* * *
Затерянный в глубине своего комфортабельного номера, где джаз играл на маленьком переносном магнитофоне, который он лично поднял на шесть этажей, Уайтхед ничего не слышал. У него было все, что ему было нужно. Водка, книги, записи, клубника. Человек мог пересидеть здесь Апокалипсис и не подозревать о нем. Он принес сюда даже несколько картин — ранний Матисс из кабинета, «Полулежащая обнаженная», «Искушение Св. Михаила», Миро и Фрэнсис Бэкон. Последний был ошибкой. Картина была слишком болезненно отвратительной с ее намеками на освежеванную плоть, он повернул ее к стене. Но Матисс был наслаждением даже при свете свечи. Он разглядывал ее, как никогда очарованный ее легкой небрежностью, когда раздался стук в дверь.
Он встал. Прошло уже много часов — он потерял счет времени — с того момента, когда здесь был Штраусс. Пришел ли он снова? Пошатываясь от водки, Уайтхед пробрался к двери и остановился, прислушиваясь.
— Папа…
Это была Кэрис. Он не ответил ей. Ее присутствие здесь было подозрительно.
— Это я, Папа, это я. Ты здесь?
Ее голос был столь искушающим; она говорила так, словно опять стала ребенком. Возможно ли, что Штраусс понял его буквально и прислал девушку к нему, или она просто вернулась по собственному желанию, как и Иванджелина после слов расставания? Да, так оно и есть. Она пришла, потому что, как и ее мать, не могла не прийти. Он стал отпирать дверь, пальцы его дрожали от нетерпения.
— Папа…
Наконец он совладал с ключом и ручкой и открыл дверь. Ее не было. Никого не было — или это так показалось ему вначале. Но стоило ему лишь отступить обратно в свой номер, как дверь широко распахнулась и он моментально оказался прижатым к стене юнцом, чьи руки схватили его горло и пах и пригвоздили, как бабочку булавкой. Он выронил бутылку водки, которая была у него в руках, и вскинул руки, пытаясь опознать своего нападавшего. Когда, отбросив первоначальный испуг, он заглянул через плечо юноши, его мутные глаза остановились на человеке, который вошел вслед за парнем.
Тихо и совершенно неожиданно он заплакал.
* * *
Они оставили Кэрис в гардеробной номера, рядом с комнатой старика. Она была пустой, за исключением набитого шкафа и кучи занавесок, которые были когда-то сорваны с окон и затем забыты. Она соорудила себе гнездо из их пыльных свертков и легла. Единственная мысль крутилась в ее голове: я убила его. Она чувствовала его сопротивление ее вторжению, чувствовала, как в нем строится защита. И затем ничего.
Из окон номера, занимавшего почти четверть верхнего этажа, открывались два вида. Один на дорогу — ослепительная лента огней. Другой, с восточной стороны отеля, был более мрачен. Окна маленькой гардеробной выходили именно на эту сторону — простиравшийся пустырь, забор и город позади него. Но, лежа на полу, ничего этого нельзя было разглядеть. Все, что она могла видеть, это кусочек неба с мерцающими огоньками самолета.
* * *
Она наблюдала за их периодическим помаргиванием, произнося имя Марти.
* * *
— Марти.
Его уже поднимали в машину «скорой». У него сосало под ложечкой от движений каталки, на которой он лежал. Он не хотел возвращения сознания, потому что вместе с ним появлялась тошнота. Однако в ушах у него больше не звенело и его взгляд был вполне осмысленным.
— Что случилось? Подрался? — спросил чей-то голос.
— Он просто упал, — сказал свидетель. — Я видел. Он просто свалился посреди тротуара. Я как раз выходил из магазина, когда он…
— Марти.
—…и он там…
— Марти.
Его имя прозвучало в его голове ясно, как колокол весенним утром. Из носа снова пошла кровь, но боли на этот раз не было. Он поднял руку к лицу, чтобы остановить поток, но какая-то рука уже вытирала ее и останавливала кровотечение.
— Все будет в порядке, — сказал мужской голос. Почему-то Марти почувствовал, что это на самом деле будет так, хотя милосердие этого мужчины не имело к этому никакого отношения. Боль ушла и вместе с ней ушел страх. Это Кэрисговорила в его голове. Все время это было так. Сейчас какая-то стена в нем была сломана — с усилием и болью, — но худшее было позади: и она произносила его имя в своей голове, а он ловил ее мысли, как теннисную подачу. Его предыдущие сомнения казались наивными. Это было очень просто — ловить мысли, если умеешь.
* * *
Она почувствовала, как он проснулся в ней. Несколько секунд она лежала на своем ложе из занавесок, пока самолет пролетал в окне, не отваживаясь поверить в то, что ей подсказывали ее чувства — в то, что он слышит ее, в то, что он жив.
— Марти? — подумала она. На этот раз слово, вместо того, чтобы затеряться в темноте между ее и его разумами, безошибочно нашло свой путь, приветствуемое корой его мозга. Он не умел формировать ответ, но это была уже академическая степень в этой науке. Если он может слышать и понимать, он придет.
— Отель, — думала она. — Ты понимаешь, Марти? Я с Европейцем в отеле.
Она попыталась вспомнить название, вскользь прочитанное ей над входом. «Орфей», вот оно. Она не знала адреса, но она постаралась как можно лучше представить для него вид здания, в надежде, что он отыщет смысл в ее возбужденных указаниях.
* * *
Он сел в машине.
— Не беспокойтесь. О машине позаботятся, — сказал санитар, кладя ему руку на плечо и принуждая его лечь обратно. Они накрыли его алой простыней. Настолько алой, что кровь не была на ней видна, отметил он, отбрасывая ее.
— Вам нельзя вставать, — сказал санитар. — Вам слишком плохо.
— Я прекрасно себя чувствую, — настаивал Марти, отталкивая заботливую руку. — Вы были великолепны. Но у меня очень важное дело.