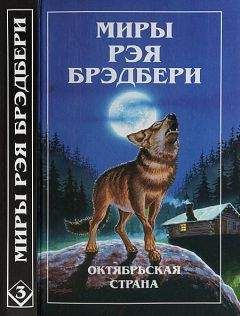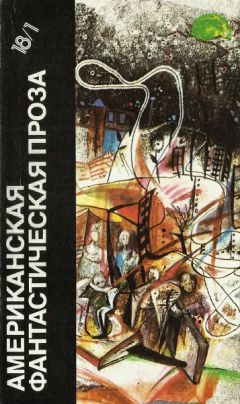Домой он вернулся постаревшим лет на двести.
Он протянул Молли письмо и бесстрастным срывающимся голосом рассказал его содержание:
— Мать умерла… в час дня во вторник… от сердца…
Он ничего не добавил, сказал только:
— Отведи детей в машину и собери еды на дорогу. Мы уезжаем в Калифорнию.
— Дрю… — сказала Молли, не выпуская письма из рук.
— Ты сама знаешь, — сказал он, — что на этой земле пшеница должна родиться худо. А посмотри, какой она вырастает. Я тебе еще не все рассказал. Она поспевает участками, каждый день понемногу. Нехорошо это. Когда я срезаю ее, она гниет! А уже на другое утро дает ростки, снова начинает расти. На той неделе, когда я во вторник жал хлеб, я все равно что себя по телу полоснул. Услышал — кто-то вскрикнул. Совсем как… А сегодня вот письмо.
— Мы остаемся здесь, — сказала она.
— Молли!
— Мы остаемся здесь, где у нас есть верный кусок хлеба и кров, где мы наверняка проживем по-человечески, и проживем долго. Я не собираюсь больше морить детей голодом, слышишь! Ни за что!
За окнами голубело небо. Солнце заглянуло в комнату. Спокойное лицо Молли одной стороной было в тени, но освещенный глаз блеснул яркой синевой. Четыре или пять капель успели медленно набежать на кончике кухонного крана, вырасти, переливаясь на солнце, и оборваться, прежде чем Дрю вздохнул. Вздохнул глубоко, безнадежно, устало. Он кивнул, не поднимая глаз.
— Хорошо, — сказал он. — Мы остаемся. Он нерешительно поднял косу. На металле лезвия неожиданно ярко вспыхнули слова: «Мой хозяин — хозяин мира!»
— Мы остаемся…
Утром он пошел проведать старика. Из самой середины могильного холмика тянулся одинокий молодой росток пшеницы — тот самый колос, что старик держал в руках несколько недель назад, только народившийся заново.
Он поговорил со стариком, но ответа не получил.
— Ты всю жизнь проработал в поле, потому что так было надо, и однажды натолкнулся на колос собственной жизни. Ты его срезал. Пошел домой, надел воскресный костюм, сердце остановилось, и ты умер. Так оно и было, правда? И ты передал землю мне, а когда я умру, я должен буду передать ее кому-то еще.
В голосе Дрю зазвучал страх.
— Сколько времени все это тянется? И никто в целом свете не знает про поле и для чего оно — только тот, у кого в руках коса?..
Он вдруг ощутил себя глубоким старцем. Долина показалась ему древней, как мумия, потаенной, высохшей, призрачной и могущественной. Когда индейцы плясали в прериях, оно уже было здесь, это поле. То же небо, тот же ветер, та же пшеница. А до индейцев? Какой-нибудь доисторический человек, жестокий и волосатый, крадучись выходил резать пшеницу грубой деревянной косой…
Дрю вернулся к работе. Вверх, вниз. Вверх, вниз.
Помешанный на мысли, что владеет этой косой. Он сам, лично! Понимание нахлынуло на него сумасшедшей, всесокрушающей волной — сила и ужас одновременно.
Вверх! Мой хозяин! Вниз! Хозяин мира!
Пришлось ему примириться со своей работой, подойти к ней по-философски. Он всего лишь отрабатывал пищу и кров для жены и детей. После всех этих лет они имеют право на человеческое жилье и еду.
Вверх, вниз. Каждый колос — жизнь, которую он аккуратно подрезает под корень. Если все рассчитать точно — он взглянул на пшеницу, — что ж, он, Молли и дети смогут жить вечно.
Стоит найти, где растут колосья Молли, Сюзи и маленького Дрю, и он никогда их не срежет.
А затем он почувствовал, словно кто-то ему нашептал: вот они.
Прямо перед ним.
Еще взмах — и он бы напрочь скосил их.
Молли. Дрю. Сюзи. И никакой ошибки. Задрожав, он опустился на колени и принялся разглядывать колоски. Они были теплыми на ощупь.
Он даже застонал от облегчения. А если б, не догадавшись, он их срезал?! Он перевел дыхание, встал, поднял косу, отошел от поля на безопасное расстояние и долго стоял, не сводя с него глаз.
Молли страшно удивилась, когда, вернувшись домой раньше времени, он безо всякого повода поцеловал ее в щеку.
За обедом Молли спросила:
— Ты сегодня кончил раньше? А пшеница — что она, все так же гниет, как только ее срежешь?
Он кивнул и положил себе еще мяса. Она сказала:
— Ты бы написал этим, которые занимаются сельским хозяйством, пусть приедут посмотреть на нее.
— Нет, — сказал он.
— Я же только предлагаю, — сказала она. Его зрачки расширились.
— Мне придется остаться здесь до самой смерти. Никто, кроме меня, не сумеет сладить с этой пшеницей. Откуда им знать, где надо жать, а где не надо. Они, чего доброго, еще начнут жать не на тех участках.
— Какие это «не те участки»?
— А никакие, — ответил он, медленно прожевывая кусок. — Неважно — какие.
Он в сердцах стукнул вилкой о стол.
— Кто знает, что им может прийти в голову! Этим молодчикам из правительственного отдела! А ну как им придет в голову перепахать все поле!
Молли кивнула.
— Как раз то, что нужно, — сказала она. — А потом снова засеять его хорошим зерном.
Он даже не доел обеда.
— Никакому правительству я писать не собираюсь и никому не позволю работать в поле. Как я сказал, так и будет! — заявил он и выскочил из комнаты, с треском хлопнув дверью.
Он обогнул то место, где жизни его жены и детей росли под солнцем, и пошел косить на дальний конец поля, где, как он знал, это было для них безопасно.
Но работа ему разонравилась. Через час он узнал, что принес смерть трем своим старым добрым друзьям в Миссури. Он прочел их имена на срезанных колосьях и уже не мог продолжать работу.
Он запер косу в кладовку, а ключ спрятал подальше: хватит с него, он покончил с жатвой раз и навсегда.
Вечером он сидел на парадном крыльце, курил трубку и рассказывал детям сказки, чтобы послушать, как они смеются. Но они почти не смеялись. Они выглядели усталыми, чудными, какими-то далекими — словно и не его.
Молли жаловалась на голову, без дела бродила по дому, рано легла спать и крепко уснула. Это тоже было странно. Обычно она любила посидеть допоздна — и язык у нее работал без устали.
В лунном свете поле было как море, подернутое рябью.
Оно нуждалось в жатве. Отдельные участки требовалось убрать немедленно. Дрю Эриксон сидел, тихо сглатывая набегающую слюну, и старался на них не глядеть.
Что станет с миром, если он никогда больше не выйдет в поле? Что станет с теми, кто уже созрел для смерти, кто ждет пришествия косы?
Поживем — увидим.
Молли тихо дышала, когда он задул лампу и улегся в постель. Уснуть он не мог. Он слышал ветер в пшенице, его руки тосковали по работе.