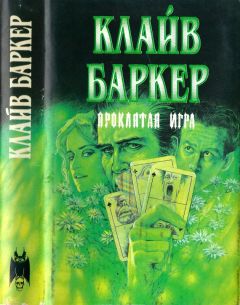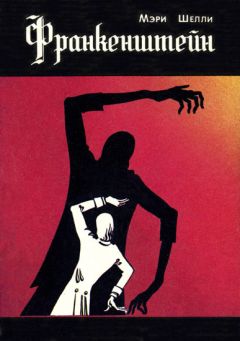Когда он подошел к передней двери, он заметил, что она взломана. По крайней мере, он может войти нормально вместо того, чтобы карабкаться по пожарной лестнице. Он переступил через набросанные доски и прошел через огромный дверной проем в фойе, остановившись, чтобы дать глазам время освоиться в темноте, прежде чем начать осторожно подниматься по обгоревшей лестнице. Во мраке каждый звук, который он издавал, казался выстрелом в похоронной, шокирующей тишине. Пытаясь ступать как можно тише, он начал подъем — лестница хранила слишком много сюрпризов, чтобы сохранить полную тишину. Он был уверен, что Европеец слышит его и готовится вдохнуть в него убийственную пустоту.
Когда он добрался до того места, куда он входил с пожарной лестницы, ему стало намного легче ориентироваться. И только когда он добрался до покрытого коврами пола, он вспомнил, что идет без хоть какого-нибудь оружия или плана, пусть самого примитивного, как вырвать Кэрис. Все, на что он мог надеяться, это то, что она больше не была важным элементом в повестке дня Европейца, что ее могут упустить из вида на несколько жизненно важных мгновений. Ступив на последний этаж, он уловил свое отражение в одном из зеркал холла — худой, небритый, на лице все еще оставались следы крови, на рубашке тоже кровяные потеки — он выглядел, как лунатик. Отражение настолько точно передавало его внутреннее состояние — отчаянное, варварское отражение, — что это придало ему смелости. Он и его отражение были согласны: он сошел с ума.
* * *
Только второй раз за всю их долгую связь они сидели друг напротив друга и играли в «очко». Игра была неоднозначной — они были, как казалось, более равны сейчас, чем были тогда, сорок лет назад, на площади Мюрановского. И пока они играли, они разговаривали. Беседа была совершенно спокойной и недраматичной — о Иванджелине, о недавнем падении рынка, об Америке и, даже, с течением игры, о Варшаве.
— Ты возвращался когда-нибудь? — спросил Уайтхед.
Европеец кивнул головой.
— Это ужас, что они наделали.
— Немцы?
— Планировщики города.
Они продолжали играть. Карты перемешивались и раздавались снова, перемешивались и раздавались. Пламя свечи дрожало от легкого дуновения, возникавшего от их движений. Игра шла сначала так, после — иначе. Разговор угасал и начинался снова — незначительный, почти банальный. Казалось, в эти последние минуты вместе — когда им нужно было сказать так много друг другу — они не говорили ничего значительного из страха, что поток может хлынуть рекой. Только однажды болтовня показала свой истинный характер — вырастая за считанные секунды из простого замечания в метафизику.
— Мне кажется, ты жулишь, — легко заметил Европеец.
— Ты бы знал, если бы это было так. Все трюки, которые я использую, твои.
— О, ну брось.
— Правда. Все, что я узнал о мухлеже, я узнал от тебя.
Европеец казался почти угасшим.
— Даже сейчас, — сказал Уайтхед.
— Что даже сейчас?
— Ты все еще мухлюешь, правда? Ты не можешь быть жив в твоем возрасте.
— Это так.
— Ты выглядишь так же, как и тогда, в Варшаве, скажи, что нет. Сколько тебе лет? Сто? Сто пятьдесят?
— Больше.
— И что это сделало с тобой? Ты еще больше напуган, чем я. Тебе нужен кто-то, кого ты будешь держать за руку, когда умрешь, и ты выбрал меня.
— Вместе мы могли бы никогда неумереть.
— А?
— Мы могли бы основать миры.
— Сомневаюсь.
Мамулян вздохнул:
— Все это была жажда? С самого начала?
— В основном.
— Тебе никогда не было никакого дела до смысла во всем этом.
— Смысла? Ни в чем нет смысла. Ты сказал мне сам: первый урок. Все это — лишь шанс.
Европеец бросил карты, проиграв.
— …да… — сказал он.
— Еще партию? — предложил Уайтхед.
— Только одну. Затем нам уже действительно будет пора идти.
* * *
Наверху лестницы Марти остановился. Дверь номера Уайтхеда была слегка приоткрыта. Он не имел никакого представления о расположении комнат за ней: два номера, которые он изучил, были совершенно не похожи друг на друга, и он не мог представить себе планировку этого номера, по планировке остальных. Он вновь вернулся к своему недавнему разговору с Уайтхедом. Когда он закончился, у него осталось слабое впечатление о том, что старик прошел совсем небольшое расстояние до внутренней двери, которую закрыл, положив этим конец беседе. Тогда это должен быть длинный коридор с комнатами.
Гадать было бесполезно: стоя здесь и перемешивая свои сомнения, он только усиливал свое нервное возбуждение. Он должен действовать.
Перед самой дверью он остановился снова. Изнутри доносилось бормотание голосов, однако оно было приглушенным, словно говорящие находились за закрытыми дверьми. Он прикоснулся кончиками пальцев к двери номера и мягко толкнул ее. Она приоткрылась еще на несколько дюймов и он заглянул внутрь. Как он и предполагал, перед ним был пустой коридор, в который выходили четыре двери. Три были закрыты, одна — слегка приоткрыта. Из-за одной из закрытых дверей доносились голоса, которые он слышал. Он сосредоточился, пытаясь уловить смысл разговора, но смог расслышать только несколько отдельных слов. Однако говорящих он узнал: один был Уайтхед, другой Мамулян. Тон беседы был также очевиден — цивилизованный разговор двух джентльменов.
В который раз он пожалел, что не обладает способностью найти Кэрис так, как она находила его: отыскать ее только с помощью одного только мозга и обсудить наилучшие возможности побега. Если бы это было возможно, тогда дело было бы только за одним — впрочем, как и в любом случае, — везением.
Крадучись он прошел по коридору к первой закрытой двери и осторожно приоткрыл ее. Хотя дверной замок издал негромкий щелчок, голоса в дальней комнате продолжали свое бормотание, не подозревая о его присутствии. Комната, в которую он заглянул, оказалось всего лишь гардеробом. Он закрыл дверь и продвинулся вперед еще на несколько ярдов по покрытому ковром коридору. Из открытой двери до него донеслась звуки движения, затем звяканье стаканов. Тень от свечи, отбрасываемая кем-то изнутри, плясала на стене. Он стоял абсолютно неподвижно, не желая отступить ни на шаг, зайдя уже слишком далеко. Голоса выплывали из приоткрытой комнаты.
— Черт побери, Чэд, — говорящий, казалось, был готов расплакаться. — Какого хера мы здесь делаем? Я не понимаю.
Слова были встречены смехом.
— Тебе и не нужно понимать. Мы здесь для Божьей работы, Томми. Выпей.