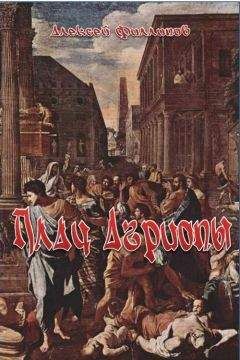Он понимал, что алкоголь корёжит, изменяет его. Не подчиняет — это было бы уж слишком, — но соседствует ежеминутно. Он научился ему сопротивляться. Играть с ним в игру: кто кого поборет на кулачках. В отличие от алкоголиков, лгавших, что могут завязать в любую минуту, он и вправду это мог. Больше того: опьянение не приносило ему ни радости, ни забвения; после него отчаянно болела голова. Однако это было дело: пьянеть. Это было занятие: сопротивляться туману в голове. Оставишь его — и ничего не останется от бытия. Человеку необходимо занятие — любое. Даже самому опустившемуся, деградировавшему человеку нужно осознавать, что он — небесполезен. Умеет спать на морозе — и не подхватить воспаление лёгких; умеет шевелить ушами; умеет читать на фарси; умеет пародировать Горбачёва; умеет пить и не пьянеть.
Однажды он позабыл запереться в своей комнате от всех живых. В комнату вошла дочь. Заинтересованно огляделась.
- Папа, ты ещё болеешь? — В её голосе было напополам осторожности и укоризны.
- Да. — Он поднял воротник. Он отвернулся к стене. Он сделал всё, что делал, чтобы защититься от жены. Но дочь, в силу малолетства или любопытства, завладевшего ею, не поняла намёков.
- А ходишь ты хорошо? — Она приблизилась к кровати, коснулась журнального столика, уставленного пустыми бутылками. Те мелодично зазвенели. Девочке, похоже, понравился этот звук; она качнула столик сильней и тихо засмеялась.
- Плохо хожу, — буркнул он. — Хромаю.
- Но у тебя ходят обе ноги? — Девочка спросила по-взрослому: «ноги». Не сказала: «ножки», или «пяточки» — слово, которое так любила её мать. Да и выражение её лица было серьёзным.
- Обе. Одна — почти никак. — Он поднялся, укутался в пиджак. С некоторых пор, после аварии, это стало возможно: обмотаться фалдами пиджака; худоба пришла на смену дородности, небольшому солидному брюшку; многое из одежды переросло скукожившегося человека. Он поднялся, чтобы выставить дочь за дверь — осторожно, деликатно. Вытеснить, выдавить, как надоедливого щенка. Коленями, коленями, лёгкими толчками. Так, чтобы та и сама не осознала, что её выгнали вон. Так, чтоб толчея показалась ей шутливой. Но любопытная не уходила.
- А зачем ты купил такую плохую новую ногу? — Брякнула она.
- Купил? — Он напрягся. Ему послышалось что-то злое, взрослое, в этом вопросе. Что-то, что дочь услышала от матери и переделала у себя в голове. — Я не покупал.
- Я слышала: мама говорила, твоя нога — как новая. И что она досталась тебе… — Девочка нахмурилась, вспоминая. — Задорого… За дорогую цену. Зачем тебе такая плохая нога задорого? Если б ты её не покупал — ты бы мне «Лего» купил, да? А теперь потом купишь?
- Если б я её не покупал — я жил бы без ноги. Понимаешь? — Он смотрел на дочь, словно не узнавал её. Словно выкормил врага. Обида, злоба, отчаяние — всё навалилось сразу. «Это Елена! — Размышлял он. — Её слова! Готова продать меня. Отобрать для себя то, что я же и скопил! Не вышло! Накося выкуси! Кукиш с маслом! Всё, как в кино: «Сам заработал — сам и пропил, имею право!»
«Чего они от меня хотят? — Думал он. — Чего все они от меня хотят?».
Они.
Неведомые они. Какие-то кентавры, или многорукие великаны. Воплощённое зло. С телом Елены и головой дочери.
«Чего все они от меня хотят?» — Кружилось каруселью в мозгу. Кружилось, раскручивалось, набирало обороты.
Что мельтешило во всей этой галиматье? Какие зверские личины скалились в круговерти?
Гордость: «Не показывать слёз!»
Бессилие: «Спасите меня, ну спасите же! Слушайте, что говорю — и делайте наоборот: не уходите — стойте над душой! Не оставляйте в покое — нарушайте покой!»
Злоба: «Только деньги — вот что им от меня нужно! Нужно всем им!»
Боль: «Нога болит! Ведь вы не знаете, каково это! Вы не знаете, как больно!»
- Без ноги трудно? — Спросила дочь. — Хуже, чем с плохой ногой?
Она была невинна.
Чёрт возьми! Невинный голос, невинный вопрос, невинный взгляд.
Мол, посмотри, мужик, — посмотри, скотина, — как ты обижаешь малых сих.
«Лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Университетскую мудрость — штудии по религиоведению — так просто не пропьёшь, при всём желании.
- Я тебе покажу! — Пробормотал он и вышел из своей комнаты-убежища — в соседнюю.
Подсмотрел краем глаза, убедился: дочь семенила следом.
Помещение казалось перегруженным вещами. Как будто кто-то имитировал нормальную жизнь в четырёх стенах, из которых жизнь ушла. Всё просто: в убежище — пусто, и много звонкого стекла; здесь — густо и сгрудилось всё остальное.
Он не испытал жалости ни к комнате, ни к её обитателям.
Он приблизился к россыпи игрушечных сокровищ дочери.
Та не бедствовала: правила целым королевством. Две пластмассовые куклы с анарексичными фигурками, белокурые, длинноволосые, модные — пили фальшивый чай. Сувенирный стеклянный ослик беседовал с сувенирным глиняным скакуном о чём-то важном: даром, что скакун превосходил ушастого в размерах раза в три. Оба, наверняка, гордились тем, что не были игрушками в чистом виде: Елена привезла обоих откуда-то из Крыма — давным-давно, когда сама была беззаботной и лёгкой на подъём студенткой. Две плюшевые собаки с грустноватыми мордочками охраняли небольшой замок, с крышей на крохотных стальных петлях.
Он поднял скакуна, взглянул на дочь. Та словно почувствовала приближение чего-то страшного. При этом в её глазах жила вина. Она знала, что виновата, — хотя, может, и не догадывалась, в чём именно.
Он ухватился покрепче за правую переднюю ногу скакуна.
Чуть поднажал.
И тоненькая конечность, увенчанная подкованным копытцем, осталась в руке.
Она отломилась легко, без глиняного крошева. Со вкусным звуком, какой раздаётся, когда ломают твёрдый горький шоколад.
- Папа! — Взвизгнула дочь. — Не надо!
- Теперь конь без ноги. — Спокойно, спокойно, как будто читал вслух скучное стихотворение, объявил он. — Как думаешь, далеко ли убежит?
Поставленный на пол, скакун на мгновение будто задумался — сохранять ли устойчивость, или завалиться на бок. И вдруг, с грохотом, упал мордой вниз. Это стало сигналом — отмашкой флага, ознаменовавшей начало катастрофы.
Дочь — медленно, медленно, — начала отодвигаться от отца и всхлипывать. Она словно собиралась с духом. Как будто её горе было таким огромным, таким неодолимым, что враз выплакать его — представлялось невозможным. Только постепенно — по капле, по крохе, — пока не побежит по щекам мощная Ниагара.
- У коня — четыре ноги, — провозгласил он. — А у меня — две. Вот как у них. — Он поднял обеих кукол, захватив в каждую пятерню — по одной. Хрупкие фигурки царапали ладони всеми, весьма натуральными, своими выпуклостями. Он сжал их обеих и услышал, как хрустнула пластмасса. Куклы сплющились, у одной отвалилась голова. Та, что была зажата слева, лишилась руки и ноги. Её-то он и протянул дочери.