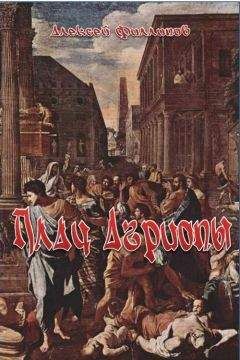- Что с ними? — Павел дёрнул «арийца» за рукав. — Они — как будто из блокады. Просидели в темноте полвека — и вылезли только теперь. Что с ними?
- Босфорский грипп в башке. Ненависть. Их оставили на произвол судьбы. Им не могут помочь. Понимаешь? — Третьяков внимательно посмотрел на управдома. — Лучше тебе побыстрей это понять. Пользы от тебя — и так немного. А не поймёшь — будешь переспрашивать — с соплями, воздыханиями — и того меньше будет. Ладно, смотри в оба. Увидишь знакомое — сигналь.
Вертолёт вновь взревел. Оставаясь точно над шоссе, плавно двинулся вперёд. Павел не знал, великое ли требуется мастерство, чтобы удерживать механическую птицу на одной линии и одной высоте. Подозревал, что изрядное. «Ариец» с задачей справлялся неплохо. Управдом выдохнул с облегчением: наверстать потерянное время — вероятно, удастся. Минута! По воздуху до чумного поместья здесь минута — пять минут максимум.
Пять — максимум.
Они истекли.
И десять — истекли.
Вертолёт срезал угол: шоссе изгибалось петлёй. Этой петли Павел не помнил. Когда он был за рулём роскошной труповозки — этой петли он не проезжал.
Да и ручей — всё никак не встречался.
- Что-то не так! — Управдом воззвал к Третьякову, не представляя, какого ответа или поступка от того ждёт.
- Вижу, — ворчливо отозвался «ариец». — Ладно… полетаем…
Он перестал придерживаться дороги. Аккуратист сделался лихачом, хулиганом. И опять «вертушку» начало мотать и лихорадить. Желудок Павла жаловался на жизнь. Пару раз овощное рагу экопоселенцев подступало к горлу. Управдом сглатывал желчь, не показывал слабости, вертел головой, совершенно позабыв о страхе высоты. Павел нутром ощущал катастрофу. Он обмишурился, оказался неэффективен — ни как спаситель родных, ни как штурман. Суетой он пытался исправить вину. Суетой — компенсировать недостаточные внимательность и зоркость.
Но, со своей всегдашней непосредственностью, мерзковатой невинностью, на сцену вышел сеньор Арналдо. И — обыграл управдома; нанёс улыбчиво удар.
- Огонь! — выкрикнул он во всё горло.
Снял наушники, вскочил с места, стукнул раскрытой ладонью в окно.
- Огонь!
- А ну, сядь! Сядь! — Одёрнул его Павел. Но и сам — невольно приподнялся, замер, покачиваясь на полусогнутых.
- Что-то горит, — констатировал Третьяков. — На западе. Километрах в пяти отсюда. В темноте разглядели бы лучше.
- Туда! Давай туда! — нетерпеливо потребовал управдом.
Пилот недовольно крякнул; птица легла на новый курс.
Павел, в тревоге, мысленно её подгонял. В мышцах и мыслях зудело: «Скорее!»
Скорее обмануться — ещё раз, — или убедиться в том, что огонь имеет к нему прямое касательство, а ему — есть дело до этого огня. Что лучше — и не поймёшь. Это как выбирать между гильотиной и электрическим стулом.
Вертолёт перепорхнул просеку, поле…
Вот тут Павел отбросил сомнения: места были знакомые. Даже с высоты. Даже в виде игрушечных пригорков и замков. В виде детских кубиков. Деревенские дома и садовые участки — те самые, мимо которых он проезжал дважды — сперва, впотьмах, за рулём, а потом — спозаранку — на переполненном местном автобусе.
По полю скакала лошадь.
Свысока казалось: подмосковная глубинка напиталась духом свободных прерий. Мчит по сырой листве, по увядшей траве резвый иноходец, не знавший седла, — и люди улыбаются ему вслед: а что ещё делать, не ловить же ветер! Но вертолёт прошёл совсем близко от лошади, и Павел понял, чем объяснялась необычная прыть: животное было напугано до полусмерти, будто вырвалось с живодёрни; двигалось неуклюже, то рысью, то какими-то заячьими скачками.
Павел узнал её — эту загнанную лошадь. Одну из тех, чьё дыхание согревало конюшню, сделавшуюся лечебницей для Еленки с Татьянкой. Это ей он давал корм. Это она касалась рук тёплыми губами, ела деликатно, осторожно. Управдом не мог рассмотреть толком ни масть, ни фигуру лошади, но твёрдо знал: это она. Покинула конюшню и, ошалев от ужаса, мчит по склизкому перегною. А на кого она оставила товарку — смешную маленькую пони с огромными лукавыми глазами? Отчего ей не сиделось в конюшне? И как обходятся без лошадиного дыхания больные?
- Сад горит. И пристройка! — выкрикнул Третьяков, — и Павел, до сих пор отказывавшийся видеть картину мира целиком, наконец, впустил в себя ужас, клокотавший под брюхом вертолёта; заглотнул крючок с ядом.
Людвиг добился своего: вымолил помощь, — вымолил приход крылатой машины с небес, — но спасатели прибыли слишком поздно.
Всё, что скрывалось за высоким забором поместья, было охвачено огнём. Горели яблони сада, горели фигурно выстриженные кусты, горел ветряк. Конюшня полыхала весёлым огнём и уже завалилась на один бок. Горел дом.
Впрочем, дом, выстроенный из кирпича и камня, ещё только начинал умирать. Его густо обступили люди. Павлу они казались чёрными — все, как один. Угольными силуэтами, тенями, контурами. То ли они и впрямь были опалены — прокоптились возле огня, вымазались в саже, — то ли злую шутку играло воображение.
Хотя даже веривший в тени управдом осознавал: существа, обступившие дом, — вполне материальны, не имеют ничего общего с безобидными призраками и бесами.
Они осаждали высокое помпезное здание.
Похоже, сперва попытались взять его штурмом, выломать парадную дверь тараном — на крыльце лежала массивная железобетонная шпала. Но дверь выдержала, — и нападавшие изменили тактику. Теперь они не рвались внутрь. Некоторые из них били стёкла окон первого этажа палками и кулаками; остальные — метали в цель бутылки с зажигательной смесью. Этакие коктейли Молотова. Свора была неплохо организована. Да и горючие коктейли — никак не заканчивались: значит, застрельщики всего дела готовились к штурму не один час, а может, и день.
Нападавших было немало — как минимум, десятка два человек, — может, и больше: некоторые одинокие фигуры держались вдали от заварушки, или попросту бесцельно бродили по полыхавшему саду. В полном соответствии с наблюдениями Людвига, некоторые производили впечатление физически крепких и неутомимых, другие же казались истощёнными до последней степени. И тех, и других будоражил азарт расправы; он гнал вперёд молодых, бодрых и боевых, он же удерживал на ногах изъеденных болезнью. Наверняка, все эти люди давно уже потеряли былых себя. Утратили последнюю связь с реальностью прошлого мира — мира законов, добрососедства и коммунальных платежей. Жажда крови толкала их на верную смерть — не от собственного огня, так от истощения последних телесных и душевных сил. Но в минуты травли, бойни, не бывает опасений, не бывает и мыслей — только ненасытная жажда. Оттого безумные не испугались зависшего над ними вертолёта. Они не выказали даже удивления.