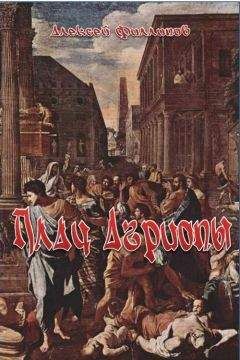Экопоселенцы, до самого взлёта, так и не появились в поле зрения. То ли испугались продолжать погоню, то ли сбились со следа. Управдом не исключал, что и богомол постарался. Да, может, прямо сейчас Авран-мучитель болтался где-то в «вертушке». Третьякову, с его нелюбовью к мозголому, об этом лучше было не знать. Ну, по крайней мере, в кабине никто четвёртый, видимый глазу или невидимый, поместиться бы попросту не сумел: по причине тесноты.
«Ариец» ни разу не спросил, куда лететь. Ни разу, одев тяжёлые наушники, не заговорил с Павлом. Запускал двигатели он долго и, как будто, нерешительно. Многократно изменял шаг винта, вслушивался в шум; норовил пробежаться по всем тумблерам — и тем, что украшали приборную панель перед ним, и тем, что свисали откуда-то сверху. Слегка пощёлкал галетниками радиостанций. Тряхнул головой, как будто сбрасывал с себя не то тревогу, не то наваждение. И, наконец, подчинил летающую машину собственной воле. Не слишком-то могучей. Вертолёт, раскачиваясь, как утлая лодка в шторм, подскочил над поляной. Без технического разогрева, рисково, набрал высоту, выровнялся, тут же снова дал крен, — и так и поковылял, будто подстреленная утка, по осеннему небу, едва не касаясь деревьев.
Павел не сумел бы в точности описать, что ощущал во время полёта. Тревогу, неопределённость, желание действовать? Злобу на собственное, хоть и вынужденное, безделье? Все эти эмоции, — «нервы», как говаривала Еленка, — походили на стадо бегемотов, толкавших управдома в бока по пути на водопой. Толчки и удары со всех сторон — вот что ему доставалось. Но сперва всё-таки нахлынул страх — продиктованный вечным инстинктом самосохранения. Он вытеснил даже мысли о Еленке с Татьянкой. Павел вспомнил английское: «стыд на меня!», — в подстрочном, неокультуренном, переводе. Вспомнил книжное: «Чума на оба ваши дома!». Он обязан был бояться до умопомрачения за жену и дочь. Только за них — не тревожиться ни о ком и ни о чём другом. Но, до немоты, до холода под сердцем, боялся разбиться. Сверзиться с высоты прямиком в березняк.
В кабине вертолёта было совсем светло: утро бесповоротно наступило. Но «ариец» — должно быть, случайно, — включил освещение приборных панелей. Выключать не стал — просто не придал этому значения. Зато Павла искусственный свет растревоживал ещё больше. Тот лился отовсюду багряной тревогой. «И кому пришло в голову сделать подсветку красной?» — Мысленно негодовал управдом. Лишь зелёный глаз авиагоризонта казался живым и тёплым. Остальные циферблаты — бешеные будильники — светили, как раскалённые угли. Они притягивали взгляд. Магнетизировали. Глаза пытались обшарить весь грандиозный кокпит — прочесть всё, что светилось: «Гидросистема», «Противопожарная система», «Топливонасосы», «Внешняя подвеска», «Запуск двигателей». «Столько всего! — Внутренне сжимался Павел. — Как справится со всем этим Третьяков? Что в нём осталось от профессионального пилота?»
Но вертолёт продолжал — медленно, неутомимо — пожирать пространство, и Павел устал дрожать, а потом и оставаться настороже.
Вернулись мысли о своих.
Шум, стоявший в кабине, убивал в зародыше саму возможность выйти с ними на связь. Впрочем, Павел сильно сомневался, что попытка дозвониться до Людвига оказалась бы успешной.
Мысли перескочили на Босфорский грипп как таковой. Поразительно, но Павел по-прежнему не имел ни малейшего понятия, что происходит в соседней столице и на земном шаре в целом. Как развивается эпидемия? Может ли быть так, что, в крупных городах, людей уже вовсю прививают какой-нибудь чудодейственной вакциной, и только в глубинке пока ещё торжествует смерть? Есть ли надежда вызволить жену и дочь из осады с помощью правоохранителей, как предлагал латинист? Закон и порядок — они ещё существуют хоть в каком-то виде, или наступила анархия?
Впрочем, связаться с полицией, даже если она функционирует, вряд ли получится. Интересно, работает ли рация в вертолёте. Или хотя бы радио?
Поборов страх, Павел вгляделся в узоры расстеленного под ногами лоскутного одеяла земли и воды, болот и лесов, песчаных карьеров, автотрасс и просек. Попытался разглядеть хоть что-то — может, отыскать жалкие полуответы на мучившие его вопросы. Колпак кабины не отличался чистотой. Следы грязи, каких-то жёлтых подтёков, покрывали стекло повсюду. Но и за стеклом картинка не радовала. Пожухлые, выцветшие, осенние краски — везде, куда хватало взгляда. Даже зелёный цвет елей и сосен тяготел не то к серому, не то к чернильной жидкой сини.
Особенно долгим взглядом Павел провожал нити шоссейных дорог — артерии цивилизации, как ни крути. Если цивилизация чувствует себя погано — это не может не сказаться на артериях. Но, как ни таращился управдом, никакого движения по шоссе разглядеть не смог. Однажды, впрочем, ему почудилась ползшая вдали колонна бронетехники — штук пятнадцать карликовых танков с крошечными пушечками: с высоты всё казалось игрушечным и ненастоящим. Но Третьяков резко вывернул штурвал — и вертолёт тут же начал быстро удаляться от колонны, — из чего Павел сделал вывод, что «ариец» старался не мельтешить ни у кого на виду. Вероятно, именно поэтому он вёл летающую машину над малозаселёнными землями: города, даже небольшие, на пути не встречались вовсе; иногда внизу проплывали небольшие дачные посёлки без признаков жизни. Хотя, в преддверии зимы, эта безлюдность и безо всякой эпидемии была неудивительна.
Павел задумался: сколько времени занимает полёт на расстояние в сотню километров? Ми-8, конечно, не реактивный истребитель, но и не рыдван-автобус. Четверть часа, если напрямки? Полчаса, если выбирать дорогу? По его прикидкам, они летели уже минут сорок-сорок пять. Не пора ли усомниться, что время в воздухе течёт точно так, как на земле? Или лучше воззвать к «арийцу», потребовать от того ответа: куда летим?
- Слышишь меня? — Прогрохотало в ушах. Управдом чуть не подпрыгнул в своём неудобном кресле. А Третьяков, как ни в чём ни бывало, щёлкнул каким-то тумблером, быстро пробежался пальцами по гарнитуре Павла — тот даже не понял, с пользой или без пользы: изменились ли настройки звука после манипуляций «арийца». — Проверяем связь. Скажи что-нибудь. — Тише в наушниках не стало, зато фразы начали звучать намного чётче.
- Когда мы… долетим? — Неуверенно произнёс управдом. Вести беседу с помощью гарнитуры было странно: Павел почти не слышал собственного голоса, зато голос сидевшего по соседству Третьякова походил по звучности на глас Божий. Не исключено, «ариец» просто поленился выполнить более точную настройку динамиков и микрофона. — Ты правильно летишь? — Вопрос прозвучал жалко. Наверное, с такой интонацией истеричная барышня обратилась бы к подозрительному таксисту, завёзшему её ночью на безлюдный пустырь. Третьяков кивнул. Прикоснулся к галетникам. Чуть отодвинул от губ микрофон на гибком креплении. Наблюдая за подельником, Павел сомневался — расслышал ли тот его вопрос. Похоже, кивок не был ответом. Разве что, ответом, который дал Третьяков себе самому, разрешив собственные невысказанные сомнения. Павла начала охватывать ярость: не такой уж он самовлюблённый болван, чтобы требовать безоговорочного внимания к себе, даже в особых обстоятельствах. Но у него — миссия. Да, именно — миссия. Как у голливудского супермена. Он не выбирал её. Он не заслужил её — ни мужеством, ни жизненным опытом, ни прежним геройством. Он не хотел её. Но он не мог от неё отказаться. Уж лучше — камнем в воду, чем не увидеть жену и дочь — пускай даже в свой, или в их, последний, смертный час!