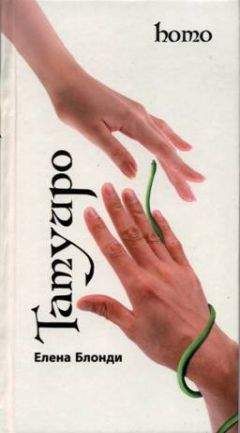Акут рассказывал это Найе ночью, когда она уже засыпала на его руке, всё время сваливаясь головой с жёсткого плеча, но тут же поспешно укладываясь обратно. Что-то спрашивала, и он чувствовал, как замирает, слушая. И думал, дыша ей в макушку: как ребёнок, что слушает сказку. И так же, как ребёнок, мерно задышала, тяжелея руками и головой, налитыми пришедшим сном.
Он снял её голову с плеча, боясь, что она совсем отдавит себе ухо, устроил рядом, поправляя послушные руки и заснул сам, гордясь своим миром, который оказывается вот такой. Привык, не замечал, пока не рассказал жене. Уже засыпая, подумал, ещё ведь — море, и о нём можно рассказать. А лучше после времени зноя взять еды и пойти туда, ночуя в развилках больших деревьев. На тёплом песке пожить, как жили когда-то морские люди — без хижин и без хозяйства. Плавая с яркими рыбами…
Проснувшись утром, Найя лежала рядом с мужем, слушая торопливое пение птиц, и улыбалась, разглядывая свет, украсивший старую хижину. Налитый в коробку из потемневших жердей, переплетённых лианами, он был, как счастье, наполнявшее её, такой же мирный и прочный.
«Разве бывает так хорошо?». Повернулась на спину и, следя за солнечными зайчиками, которые запускали через щели и окна колыхающиеся листья над крышей, погладила локоть спящего мастера. «Бывает, а я и не знала…» Счастье в ней росло, полнилось и, переступив горло, через глаза, уши, через всю голову расходилось в ширину и вверх, будто она — маяк, светящий не кораблям, а звёздам. Мир становился огромным, бесконечным, и эта бесконечность длилась над ней, а не в бездну, куда ей когда-то пришлось заглянуть. А тело — лёгкое, и уже не стояла она, прицепленная к земле, а двигалась вверх за пришедшим к ней светом счастья, и, значит, свет не только над головой, но вокруг, во все стороны. «И в нем поют птицы, много».
Улыбаясь, старалась разобрать знакомые песенки. Вот чирикают воробьи или кто тут вместо воробьев? Орут хором, будто тарахтят напёрстками по стиральным доскам, наверное, у них концерт школьный, и все они в костюмчиках и маленьких галстуках, но за углом школы, конечно же, курят в кулак и плюют на траву, мальчишки. А так — нежно и страстно, придыхают горлинки, парочкой сидя на ветке. Отдохнут немного, замолчав, и снова вместе начинают. И ещё незнакомые какие-то птицы, песенка их, как лёгкие бусины, что сыплются на стеклянную доску, подвешенную на тонкие нитки. Досочку качает ветер, и бусины тенькают, пересыпаясь…За деревьями мяукают речные птицы, точно коты, требующие еды. У них, наверное, кольцом загнуты полосатые хвосты и усы торчат в разные стороны…
Рассмеялась и, чтоб не будить Акута, прижала ко рту ладонь. Оказывается, в счастье думается легко и просторно, без оглядки. И если придумалось, что у чайки есть полосатый хвост, то и — можно!
А это…
Она села и, медленно откидывая волчью шкуру, прислушалась. В редкие паузы, когда вдруг наступало короткое молчание птичьего хора, вошли другие звуки. Не те, что каждый день говорит деревня, к ним Найя успела привыкнуть. Из-за щелястой двери — тихие всхлипы и иногда, разделённые птичьими трелями — прерывистые вздохи.
«Так бывает, но — редко и очень коротко…» — пришёл из света и птичьего пения запоздалый медленный ответ. И Найя чуть не заплакала, не желая соглашаться. Ну почему, почему обязательно, когда так хорошо, что-то приходит? Что-то, что всё портит!
И, стараясь не думать, чтоб не остановиться, вылезла из их общего тепла, запустив руку в короткие волосы, отбросила пряди со лба, нащупала сброшенную тайку. Стоя над ложем, смотрела на мастера так, будто хотела съесть его глазами, и дёрнула головой, чтоб оторвать взгляд от спящего тёмного лица. На ходу заворачиваясь, прошлёпала ко входу, отворила дверь и вышла, не забыв прикрыть её снова.
Ахнув, заслонила лицо ладонью.
Свет, запахи, птичий звон и людские крики обрушились на неё, высекая из глаз удивленные слёзы. Мир вертелся и подпрыгивал шумной птицей, расправлял крылья, крича о жизни как о единственном главном и нужном сейчас.
И посреди сверкания и блеска, калейдоскопом перемешивающего землю, лес и белые облака в небе, — неподвижная тёмная точка: скорченная фигура мальчика у покосившегося столбика ненужных перил.
Внимательно надавливая босыми подошвами на непривычно сухое и тёплое дерево мостков, Найя прошла к перилам и села рядом с плачущим Мерути. Положила руку на горячее круглое плечико.
— Ну что, малыш? Расскажешь?
— А не спеть ли нам песню
А-а-а любви…
А не выдумать ли
Новый жанр!
Из кухни рванулось по коридору завывание подключенной гитары, и Аглая засмеялась, бросая в раскрытую сумку вещи. Собиралась она сначала тщательно, но потом устала, и в сумку полетело всё подряд, лишь бы под самый верх её.
По коридору протопали босые шаги, присвистывая на линолеуме, щёлкнуло-хлопнуло: кто-то пробежал в туалет. Следом, шурша курткой, ещё кто-то выскочил в прихожую и загремел замком на входной двери. В комнату потянуло сигаретным дымком. Хмельной голос, отдаваясь под высоким потолком старого подъезда, прокричал:
— Ольчик, ну ты где там? Мы всё сожжрали, у-у-у! Привези корма, Олюнь! Суши там или роллов. Угу, давай!
Орущего с шумом втянули обратно в квартиру, отбирая телефон и обещая свободное курение в кухонную форточку. Аглая усмехнулась. Обещаниями сыпали чужие голоса, а Женька время от времени встревал — о соседях, милиции и своем здоровье, которое от курения в кухне сразу же испортится. Говорил, осторожничая, не в полный голос, и потому лихие гости спокойно его перекрикивали.
Жикнув застежкой спортивной сумки, Аглая спихнула её на пол, к стоящему у двери рюкзаку. «Ещё же обувь в прихожей!» — вспомнила с неудовольствием. В коридор выходить не хотелось. Хотя праздновали как раз её переезд. Витя собирался сам её забрать, но она, заранее раздражаясь сборами, попросила встретить у метро. А ему ещё и заказ пришёл, и он целыми днями пропадал в студии, даже по телефону поговорить толком не успевали.
— Я не хочу всё сразу увозить, это как пожар. Мы же не погорельцы, так? — сказала она ему в последнюю встречу, уже стоя в дверях, и потянулась поцеловать. И опять замлело внутри всё, когда он послушно нагнул голову, подставляя губы.
Аглае хотелось сегодня и завтра, а может, и ещё раз — самой проехать этой дорогой, которой — то в набитой электричке, то у заплаканного окна маршрутки — она ездила каждый день, давно перестав замечать, что там, за стёклами. Сейчас, светлым ещё майским вечером, спокойно радовалась тому, что поедет в неурочное время, никуда не спеша, и даже будет жалеть, что нет пробок и поездка окажется непривычно короткой.