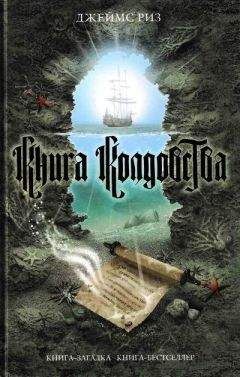— У меня? Mais non! Это у тебя есть дар. Я вижу только беспокойных мертвецов! Увы, мой талант не стоит и выеденного яйца.
По правде сказать, я просто разрывалась на части: уж очень хотелось мне знать, что в море с ними ничего не случится, что après tout[244] они вернутся целыми и невредимыми в Логово ведьм. Ведь мы почти не разлучались с тех пор, как семь лет назад обрели друг друга на острове Индиан-Ки, а кроме них, у меня на свете не было никого. Но в последнее время Леопольдине требовалось все больше и больше времени, чтобы прийти в себя после занятий ясновидением, и я предпочла ни о чем ее не расспрашивать. Девочка сильно вымоталась, ей требовался отдых — так пускай съездит, развеется. Лео же беспокоилась обо мне. Взяв мою ужасно бледную руку, она обратилась ко мне с просьбой.
— Пообещай, — умоляюще проговорила она, — что будешь есть побольше. Саймон поплывет с нами, но Юфимия остается, чтобы кормить тебя и присматривать за тобой.
— Ах, что ты, за мной вовсе не надо присматривать.
— Нет, она все равно останется в своем домике на Уайтхед-стрит и будет приносить тебе горячую еду. Обещай мне съедать все. Ты согласна?
— Согласна пообещать или согласна съедать?
— И то и другое!
Мы обменялись многозначительными взглядами, каждая из нас показала одна другой глаз, затем последовали слезы и, наконец, объятия.
Никаких обещаний я Леопольдине не дала, так что никто не вправе упрекнуть меня, будто я не сдержала слова. Дело в том, что в какой-то момент я действительно перестала есть. Попросту не могла, и все. Любая еда, даже та, которую готовила Юфимия, казалась мне безвкусной и тяжелой, как гири весов. Когда я жевала пищу, мои зубы наливались тяжестью и казались металлическими, а если я сжимала челюсти, во рту возникало ощущение холода и меня охватывал озноб. Глотать было еще противнее, а потому — простите за такую подробность — я практически перестала испражняться. Хуже всего было то, что я усвоила новую странную привычку, причем считала ее очень дурной и предавалась греху втайне: когда я чувствовала голод (хотя, конечно, это был не голод, а нечто совсем иной природы), мне хотелось лишь одного: золота, то есть золотых монет. Я постоянно носила их при себе в карманах юбки, потихоньку вытаскивала по одной, совала в рот и сосала, положив под язык, как леденцы. Только это утоляло мой странный голод, и я снова и снова спрашивала себя: что же такое сделал со мною Квевердо Бру?
Результат поставленного им алхимического опыта проявлялся долго, очень долго, но время неумолимо делало свое дело. Я полностью потеряла аппетит и так исхудала, что напоминала ходячий скелет, моя бледная кожа не загорала на солнце, волосы изменили цвет, превратившись из светлых в блистающие, как будто сделанные из начищенного серебра. Сначала я решила, что все эти симптомы — предвестники Дня крови, однако уже к концу 1845 года поняла, что кровь тут ни при чем. Всему виною был Бру.
Из-за его алхимических снадобий я сильно ослабела. Впрочем, у меня достало бы сил уплыть вместе с моей троицей, когда б не проклятый судебный процесс и его пагубное влияние на мое телесное и душевное состояние.
Мое присутствие на процессе было необходимо, таково было распоряжение суда. Невозможно сказать, какие муки я вынесла, когда мне пришлось давать показания. Для всех здешних моряков я была вдохновительницей и тайным лидером самого успешного предприятия на острове, владелицей нескольких судов (недавно мы приобрели вторую шхуну под названием «Геката» и шлюп «Персефона»), причем каждое из них имело свою собственную команду, действовавшую без подсказок Леопольдины — с тем, чтобы их удачи или, точнее, неудачи компенсировали успешные действия нашей «Сорор Мистика». В глазах тех, кто судился со мной, я была исчадием ада — агитаторша-северянка, аболиционистка, иностранка. И вдобавок — женщина. («Ах, если бы они только знали! — не раз говаривала я самой себе. — Если бы только знали».) На том злосчастном судебном процессе мне вновь пришлось посмотреть на себя чужими глазами. В течение долгого времени я общалась только с моей троицей и теми, кто на меня работал или находился в услужении. Деньги, которые я платила, заставляли людей соблюдать почтительность. Но теперь я привлекла к себе внимание недружелюбно настроенных зевак, и в зале суда, и на улице.
Однажды я шла на очередное заседание с зонтиком от солнца в одной руке и тростью, вырезанной из березы, в другой; на эту трость я опиралась при ходьбе, а также разгоняла ею стаи собак, которых почему-то влекло ко мне в последнее время. Внезапно до меня донеслись громкие перешептывания, и я заметила на лицах окруживших меня людей нескрываемое презрение. В тот день мне довелось испытать его почти физически: плоский кусок песчаника пролетел мимо меня, вращаясь в воздухе, и оторвал клочок моего платья. Камень бросил мальчишка, который теперь уже вырос и носит кличку Дупло — он постоянно жалуется на зубную боль, от которой не помогают ни врачи, ни щипцы, ни содержащее опий питье, поскольку Леопольдина в мгновение ока наложила на него проклятие. Моя юная чародейка оказалась быстрее и точнее, чем этот уличный сорванец. Я же, глупая, так и замерла посреди дороги, не решаясь предстать перед судьей в порванном платье и утешая себя вдруг пришедшей на ум строчкой из Библии: «Иисус, пройдя посреди них, удалился».[245] Право, я не сравнивала себя с ним, вовсе нет. Этот стих подсказал, что делать: я гордо расправила плечи и пошла дальше, к зданию суда.
Но, возвратившись домой, я тут же затворилась в Логове. Вернее, спряталась в нем.
Скрылась от всех. Как правило, я отсиживалась в башне, коротая часы за чтением, пока остальные трудились над преумножением нашего состояния. За этим занятием и застала меня Лео — она сообщила, что на мое имя пришло письмо из Нового Орлеана, от Эжени. Послание оказалось печальным. Эжени, моя дорогая подруга, которую я не видела с тех самых пор, как обитательницы Киприан-хауса разъехались кто куда, хотя не раз собиралась ее навестить, а сама она успела стать верным другом и любимой тетушкой для моих близнецов, — так вот, моя милая Эжени начала кровоточить. Да так сильно, что не нашла в себе сил зашифровать послание, состоящее из десятка строчек. Она прощалась со мной и сообщала, что наконец получила весточку от Герцогини. Та тоже, похоже, чувствовала приближение алой смерти, а потому списалась с Эжени, чтобы через ее посредство передать мне многочисленные «Книги теней», которые она увезла в свое время из Нью-Йорка в нескольких огромных корзинах. Эту просьбу Эжени выполнила: три специально изготовленных необъятных ящика — в каждый из них «вошло бы по здоровенному борову», как она мне написала, — уже находились в пути. Эжени. La pauvre. В постскриптуме она сыпала проклятиями в адрес Мари Лаво и утверждала, что именно она, колдунья, каким-то образом приблизила ее смерть.