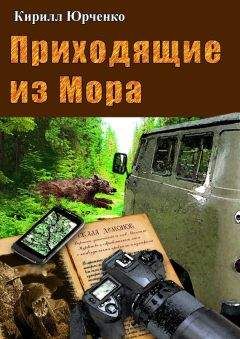— Да, гости у нас, — произнес, наконец, хозяин и смилостивился: — Проходи. Мать, налей еще чуток.
После того как всей компанией, за исключением Стрельникова, уговорили оставшийся самогон, Фаддей дал команду жене готовить место для гостей и увлек Василия (тот с большой неохотой покинул стол) за собой во двор.
— Этот дед Василий — бывший вертухай, — сказал чуть позже Виктор, когда они загнали машину во двор. — Говорят, в свое время в лагерях на вышке стоял с оптической винтовкой. Божится, что ни одного заключенного в своей жизни не убил. Да что-то не верится. Ведь ворошиловский стрелок, его душу. Вохра поганая.
Лука представил себе Василия в качестве надзирателя.
— Да ну, как-то сомнительно, что этот тип действительно мог в лагере работать. Какой-то он дохловатый. И несерьезный.
— Насчет дохлого — не уверен. Насчет «несерьезного» — еще увидишь. Заодно познакомишься с его закадычным корешем. Зовут того Еносий, а по молодости он занимался как раз тем, что сидел в тех самых лагерях. Вроде как из репрессированных, а затем прижизненно реабилитированных. Та еще странная парочка. Может, его дед сам Василий и охранял. Никто, кстати, до сих пор этот вопрос разъяснить не может, а они на этот счет помалкивают. Так вот этот Еносий — совершенная противоположность. Здоровый, раскормленный тюфяк. Старше Василия, а выглядит на десяток лет моложе. Хотя тоже одной ногой в могиле стоит. Да тут все — одной ногой.
— Ты говоришь, здесь три старика. А когда я делал снимки, я точно видел еще одного мужика. Он стоял у леса. Высокий, тощий. Я же тебе говорил, но он скрылся…
Лука не успел договорить. Отвлекла бабка Дарья. Она притащила постельное белье и повела их в пристрой.
— Тут и будете жить.
— Царские хоромы, Дарья Семеновна! — сказал Лука, едва только глянул внутрь. На широченных полатях можно было разместиться хоть вдесятером.
Хозяйка повелела распоряжаться своим временем как заблагорассудится. Главное — не забывать запирать калитку. А если уж вернулся поздно, придется лезть через забор, потому как на ночь ворота и калитку задвигают тяжелым засовом и все окошки заставлены.
— Чтобы медведь не баловался, ежели заявится.
Они вернулись во двор, чтобы разгрузить машину. Потом взялись за генератор. По какой-то причине он не перенес дорогу и никак не хотел запускаться. Пришлось разбирать. Захмелевший Виктор зло ругался. Пока занимались починкой, не заставил себя ждать тот самый старик Еносий. Узнав от Василия о приезде нового человека, он тоже поспешил «засвидетельствовать почтение».
— Если что, милости просим к нам, — предложил он. — Третья изба отсюда. Только не та, что справа, — та брошена — а левая.
Он действительно производил впечатление несуразного человека. Вместо шнурков на ботинках была закручена алюминиевая проволока. Ею же вместо ремня подвязаны брюки. Сам — кудлатый и с легкой рыжинкой в седеющих волосах.
Спустя несколько минут общения, Стрельников заметил, что у старика действительно не все дома. Или настолько простым Еносий был человеком. Все что-то лез указывать, поддакивал на любое слово Виктора, хотя в технике был полный ноль. Виктор уже шепнул брату, что меньше всего ему хотелось бы отвечать на сыплющиеся от Еносия глупые советы, а проще — взять и пристрелить.
Этот старик, загадочный как и его товарищ, мгновенно испарился, едва только во двор вернулся Фаддей.
— Все шастают, паскуды! Вынюхивают, злодеи. Дал же бог соседей, мать их. — Гремя костылем, он снова ушел в дом.
— А ты все ворчишь, старый! — послышался из открытого окна голос бабки Дарьи. — Мало тебе налили…
Они там о чем-то заспорили, и вскоре старуха выбралась на крыльцо, сердито бурча.
— Дарья Семеновна! — окликнул ее Виктор. — Лука говорит, что видел в деревне какого-то мужика молодого высокого.
— В брезентовом плаще, худой очень, — добавил Лука.
— А, так это Игнат. Сын Прокопьевны, царствие ей небесное, — Старуха с грустью вздохнула, будто вспомнив о давно прошедших годах. — Был он здесь когда-то агрономом, да как все начало хиреть, уехал. Лет пятнадцать уж прошло. Мать-то его, Прокопьевна, еще раньше померла. А он все приезжал. Говорит — тянут родные места. По первости наведывался каждый год, потом года три или четыре его вовсе не было. И вот — снова нарисовался. Странный он. Ни с кем не общается. Появляется внезапно, так же внезапно исчезает. Первое время я даже боялась столкнуться с ним ненароком. Говорю ему: «Игнат, когда-нибудь богу душу отдам. Как из-под земли берешься». А он в ответ: «Прости, мать». Да уж прощу, конечно…
Она посмотрела в сторону ворот, как будто Игнат и сейчас внезапно мог очутиться во дворе, после чего стала говорить заметно тише.
— В этот раз, как приехал, говорит, рак у него в очень тяжелой форме. Недолго жить осталось. Вот и решил перед смертью навестить родину, как будто здесь обрести покой хочет. Несчастный он, — бабка вздохнула и пошла к скотине.
Стало темнеть. Виктор, наконец протрезвевший и от того еще более сердитый, закончил ремонт генератора. Протянули провода, собрали вручную прожектор из галогеновой лампы с большим отражателем и подвесили к бельевой веревке. Хлипкое устройство раскачивалось и грозило упасть на землю. Лука вскочил, схватил провод. В такой позе он и застыл, когда генератор вдруг затарахтел, прожектор вспыхнул идеально белым сиянием, и едва не ослепший от яркого луча Лука сквозь внезапно хлынувшие слезы увидел девушку в белом сарафане, возникшую перед ним словно призрак прекрасной незнакомки.
Она загородила глаза ладонью.
— Неужели у нас будет свет? — раздался мелодичный голос.
Незнакомка была чудо как хороша. И он был совершенно очарован ею. Неожиданный приступ интуиции подсказал вдруг, что эта молодая женщина должна раз и навсегда занять главное место в его душе. А еще он подумал вдруг, что она кого-то ему поразительно напоминает.
— А вот и Маринка! — послышался радостный голос Фаддея…
Виктор храпел рядом, а Лука все не мог уснуть. Луна заглядывала в окошко, осенив противоположную стену крестом рамы. Было так светло, что проглядывался каждый предмет. В особенности — крупная фигура брата, ноги которого чуть свисали с полатей.
Душно. Лука выбрался из домика и уселся на пороге. Голыми ступнями он чувствовал тепло дощатого настила, еще не остывшего после жаркого дня. Прислушался. Что-то непривычно давящее и тревожное ощущалось в округе. И он понял что. В любой деревне ночью всегда лаяли собаки. Вразнобой, на разные голоса, периодично, но их лай раздавался со всех концов. А тут уже целый час ни единого звука, кроме легкого шелеста листьев. Некому возвестить о появлении чужого, некому обозначить границы территории, за которые не стоит соваться. Живут здесь люди, а деревня — мертва. Потому что жизнь в ней не ощущается. Даже лес, возвышавшийся над деревней, хранил совершенное молчание.