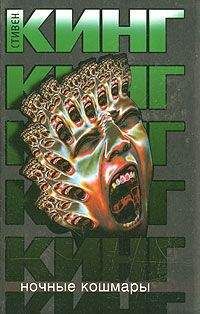«О черт, подожди минутку, — думал он. — Мы просто последние в этом мире упрямые оптимисты, вот и все — большинство из нас не заботится пристегивать ремни безопасности, и мы охотно сидели бы у края бейсбольного поля, куда со страшной скоростью летит мяч, совершенно не беспокоясь, есть ли там защитная сетка».
— Что там такого смешного, мистер Пирсон? — спросил Райнеман, и Пирсон вдруг почувствовал, что улыбается во весь рот.
— Ничего, — ответил он. — Ничего существенного.
— Ладно, только не обижайтесь на меня.
— Я обижусь, если вы не будете называть меня Брэндон.
— Вот как, — сказал Райнеман, видимо, обдумывая это предложение. — Ну хорошо, если вы будете называть меня Дьюк и мы не опустимся до Би-Би, или Буби, или чего-нибудь в этом роде.
— Об этом можете не беспокоиться. Хотите я вам кое-что скажу?
— Конечно.
— Это самый удивительный день в моей жизни.
Дьюк Райнеман кивнул без ответной улыбки:
— И он еще не закончился.
Пирсон решил, что Дьюк нарочно выбрал таверну Галлахера — совершенно не типичное для Бостона идеальное местечко, где двое банковских служащих могли бы обсудить дела, дающие знакомым основание сомневаться в здравости их ума. Самая длинная стойка, которую Пирсон когда-либо видел не в кино, а наяву, огибала огромную танцевальную площадку, на которой три парочки задумчиво покачивались в такт исполняемой дуэтом Мэри Стюарт и Трэвис Тритт песенке «От этого тебе больно не будет».
Будь площадь бара поменьше, он был бы переполнен, но высокие стулья были так ловко расставлены вдоль этой немыслимо длинной беговой дорожки красного дерева, что создавалось ощущение уединения, словно в отдельных кабинках. Пирсону понравилось. Слишком легко было представить, как человек-летучая мышь (а то и парочка их) сидит на стуле (или на насесте) в соседней кабинке и внимательно прислушивается к их разговору.
«Разве не это называется мышлением осажденной крепости, старина? — подумал он. — Долго же ты до этого додумывался!»
Нет, решил он, пока что ему все равно. Он просто был благодарен, что не надо осматриваться по сторонам, пока они будут говорить… Вернее, пока будет говорить Дьюк.
— Ну как, годится? — спросил Дьюк, и Пирсон удовлетворенно кивнул.
С виду вроде один бар, размышлял Пирсон, проходя вслед за Дьюком под внушительной табличкой «КУРИТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО В ЭТОМ КОНЦЕ», но на самом деле их два… Так же, как в пятидесятые годы любая забегаловка на Юге делилась на две части: для белых и для черных. И теперь, как и тогда, четко видна разница. Посередине зала для некурящих стоял «сони» с экраном чуть ли не во всю стену; в никотиновом же гетто к стенке был привинчен болтами старенький зените с выразительной надписью: «ВЫ ИМЕЕТЕ ПОЛНОЕ ПРАВО ПОПРОСИТЬ В ДОЛГ, А МЫ ИМЕЕМ ПОЛНОЕ ПРАВО ПОСЛАТЬ ВАС НА…». Здесь и стойка была погрязнее — сначала Пирсон решил, что ему это показалось, но, присмотревшись, убедился, что фанера кое-где вздулась и сплошь покрыта кругами от стаканов. И, конечно, густой, горьковатый запах табачного дыма. Можно было поклясться, что он исходит от стула. Парень, читавший сводку новостей на стареньком закопченном экране, походил на умирающего от недоедания; он же на громадном экране для некурящих имел такой вид, будто только что пробежал стометровку за девять секунд и после этого десятый раз подтягивается на перекладине.
«Проходите на задние места в автобусе, — думал Пирсон, с обостренным любопытством рассматривая своих собратьев по десятому часу. — Ладно, нечего жаловаться; через десять лет курящих вообще никуда не будут пускать».
— Сигарету? — спросил Дьюк, словно читая его мысли.
Пирсон посмотрел на часы и принял подарок, прикурив от зажигалки Дьюка — подделки под «ронсон». Он глубоко затянулся, с наслаждением вдыхая дым и получая удовольствие даже от легкого головокружения. Конечно, это опасная привычка, даже смертельная; а как же иначе, если она так овладевает тобой? Просто мир так устроен, вот и все.
— А вы? — спросил он, заметив, что Дьюк прячет пачку в карман.
— Я могу потерпеть, — улыбнулся Дьюк. — Я же затянулся пару раз перед тем, как сесть в такси. И еще выкурил лишнюю за ленчем.
— Вы себя ограничиваете, да?
— Угу. Обычно я себе позволяю за ленчем одну, а сегодня вот принял две. Вы меня сильно напугали, знаете ли.
— Я и сам сильно испугался.
Подошел бармен, и Пирсон поразился, с какой ловкостью тот избегает струйки дыма, вьющейся от его сигареты.
«Не знаю, понимает ли он… Но если бы я выпустил дым ему в лицо, спорю, он перепрыгнул бы через стойку и набил бы мне морду».
— Что желаете, джентльмены?
Дьюк заказал два пива «Сэм Адамс», не спрашивая Пирсона. Когда бармен отошел, Дьюк наклонился к Пирсону и сказал:
— Не наваливайтесь сразу. Сегодня не стоит напиваться. И даже быть на взводе.
Пирсон кивнул и бросил пятерку на стойку, когда бармен принес пиво. Он сделал большой глоток, потом затянулся сигаретой. Некоторые считают, что сигарета особенно вкусна после еды, но Пирсон с ними не был согласен: в глубине души он был уверен, что не яблоко вовлекло Еву в первородный грех, а пиво с сигаретой.
— Так чем вы пользовались? — спросил Дьюк. — Вшитой полоской? Гипнозом? Доброй старой американской силой воли? Судя по вашему виду, вшивали полоску.
Если Дьюк хотел рассмешить его, то это у него не получилось. Пирсон сегодня много думал о курении.
— Да, вшивал, — признался он. — Я носил ее года два после того, как родилась дочка. Я только посмотрел на нее в роддоме и решил бросить. Я считал сумасшествием выкуривать по сорок-пятьдесят сигарет в день, когда мне еще восемнадцать лет отвечать за это юное существо. — «В которое я немедленно влюбился», — хотел добавить он, но решил, что Дьюку и так понятно.
— Не говоря уже о том, как вы привязаны к жене.
— Не говоря уже о жене, — согласился Пирсон.
— Да еще куча братьев, невесток, сборщиков налогов, арендаторов и друзей дома.
Пирсон расхохотался и кивнул:
— Да, именно так.
— Но не так все легко, как кажется, да? Когда четыре часа утра и не можешь уснуть, все это благородство куда-то улетучивается.
Пирсон искривил губы:
— Или когда надо идти наверх и вкалывать на Гросбека, и Кифера, и Фаина, и всех прочих начальников. В первый раз, когда мне пришлось идти туда и воздерживаться от сигареты… Ох, и тяжко было.
— Но на какое-то время вы совсем бросили.