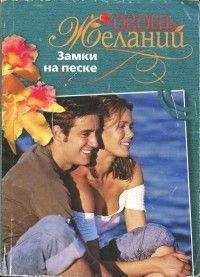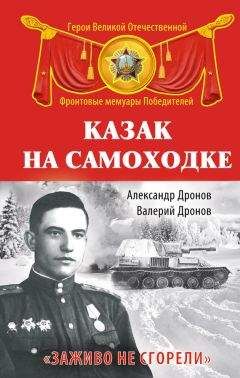Прасковья кивнула, но с места не сдвинулась.
Священник не знал, чем бы еще помочь потерявшим всякое соображение женщинам. Ни Аксюша не рыдала по муже, ни Прасковья — по хозяине, а было в их лицах что-то одинаковое — точно время тянется для обоих иначе, гораздо медленнее, и не скоро слова отца Василия доплывут по воздуху от его уст до их ушей.
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Что же ты? Разве не видела, что с ним? Хоть бы отходную прочитать успели...
Даже не вздохнула покаянно Прасковья — а продолжала глядеть на Андрея Федоровича и все еще сидящую рядом с ним Аксюшу в светлом, глубоко вырезанном платье с тремя зелеными бантами спереди и, по моде, с шелковой розой на груди.
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Обмывать будете — не забудьте Трисвятое повторять, потом в новое оденьте. За родней пошлите — чтобы с утра ко мне пришли насчет отпевания. Да ты слышишь ли?!
АКСИНЬЯ. Да, батюшка. Только этого быть не может, батюшка. Господь справедлив — и к злодею в тюрьму святого отца пошлет, чтобы злодей покаялся. И злодею грех отпустят! И злодею! Господь справедлив! Он моего Андрюшу так не накажет! Мы пойдем, батюшка, а вы его исповедуйте, соборуйте, причастите!
Она вскочила и устремилась было к двери, но вдруг схватила остолбеневшего священника за руку.
АКСИНЬЯ. Только поскорее, ради Бога!
И кинулась прочь.
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Беги за ней, дура! Видишь ведь — с ума сбрела!
Прасковья громко вздохнула.
ПРАСКОВЬЯ. За что Он нас так покарал?
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. На все Его святая воля. Кабы я знал!..
Сцена шестаяПрасковья ходила по хозяйской спальне, неторопливо наводя порядок. Подошла к образам и поправила фитилек лампадки.
ПРАСКОВЬЯ. Вот и все, Матушка Богородица... Вот и схоронили... Съехать бы нам с хозяйкой отседа, не травить душу... А я сегодня на ночь-то молилась? Ан не помолилась... Дай-ка хоть тут... Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины...
Сквозь канонические слова молитвы пробивается подлинный крик Прасковьи.
ГОЛОС ПРАСКОВЬИ. Матушка Богородица! Угомони ты Аксинью! Сил моих больше нет! Тетка ее к себе забрала — а что тетка? Топиться бы не побежала! Матушка Богородица, да у нее ж, моей голубушки, волосики-то за ночь побелели!.. Я-то что?! А на нее гляжу — а у нее одна прядка темненькая, другая — беленькая... А мне-то что?.. Кто я?.. А она сидит и просит, чтобы не выносили... отец Василий, говорит, придет — исповедовать, причащать и соборовать... Нельзя, говорит, без исповеди... Нельзя с собой в могилу все грехи брать... А я-то что?.. А она меня прочь гонит! Разве я виновата?.. А она-то знай одно твердит — пусть лучше я, твердит, помру без покаяния!.. Разве ж можно на себя смерть накликать? Да и без покаяния? Усмири ее, укроти ее, Матушка Богородица!..
Встав с колен, Прасковья медленно вышла. Часы пробили полночь. И в дверях появилась Аксинья — вся в белом.
Аксинья прокралась в спальню, откуда уже унесли тело полковника Петрова, и стала бессмысленно ходить вдоль стен, касаясь пальцами знакомых домашних вещей, словно бы убеждаясь в их осязаемости. Оказавшись перед зеркалом, она испугалась — там маячила фигура в длинной белой рубахе, в ночном чепце.
АКСИНЬЯ. Чур меня, чур! Уходи, уходи... Я тебя не звала...
Отражение не исчезло.
АКСИНЬЯ. Да кто ж это, Господи? Да нет же, не я это, не я!
Она скинула чепец, обеими руками огладила взъерошенные волосы, обжала, свела пальцы у основания косы. Все равно в этом лице больше не было ничего такого, за что его можно было бы признать своим.
АКСИНЬЯ. А, знаю, знаю, знаю... Сейчас я тебя...
Она нырнула в низкую дверцу чуланчика и появилась с охапкой вещей — с зеленым кафтаном, с красным камзолом, с треуголкой. Сперва она положила вещи покойного мужа на постель, образовав из них подобие тела, и долго, нежно их гладила. Потом обняла, легла сверху.
АКСИНЬЯ. Где ты, радость моя? Куда тебя от меня забрали? Неужто на мученья? Неужто всех, кто без покаяния помрет, сразу на мучения забирают? А коли кого поветрие скрутит и не будет рядом батюшки, чтобы грехи ему, бедненькому, отпустить? Коли кто внезапно во грехах своих помрет? На мучения, значит? Я так тебя люблю, что сама бы за тебя живая в гроб легла, а тебя мучить будут?.. Постой, не уходи! Я же видела тебя, видела!
Аксинья поспешила к зеркалу, коснулась пальцами своего отраженного лица, схватила с постели кафтан, быстро надела в рукава, нахлобучила треуголку.
И вспыхнули свечи в канделябрах по обе стороны высокого темного стекла! Оттуда, из рамы, смотрел на Аксинью живой полковник Петров. Она в изумлении отступила на шаг — и он отступил. Она протянула руки — протянул и он.
АКСИНЬЯ. Андрюшенька... Светик мой!..
ПЕТРОВ. Аксиньюшка...
АКСИНЬЯ. Милый!..
ПЕТРОВ. Спаси меня!..
АКСИНЬЯ. Да, да, да! Да! Да!..
В спальню вбежала Прасковья.
ПРАСКОВЬЯ. Аксиньюшка, голубушка моя, ты что это затеяла?!
АКСИНЬЯ. Положи душу свою за други своя!
Прасковья кинулась обнять хозяйку, и, обнимая, стянуть с нее одежду мертвого мужа. Но Аксинья извернулась и выбежала вон.
ПРАСКОВЬЯ. Ахти мне! Не уследила!..
Сцена седьмаяАксинья — уже не Аксинья, а Андрей Федорович, — в зеленом кафтане, красных камзоле и штанах, в треуголке, стояла на коленях, выкидывая на пол вещи из большого пузатого комода.
ПРАСКОВЬЯ. Да побойся Бога, сударыня! Да что люди-то скажут?..
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ. А чего им говорить? Схоронил я свою Аксиньюшку, хочу ее вещицы бедным раздать, и платьица, и рубашечки, и чулочки...
ПРАСКОВЬЯ. Аксинья! Очнись!
Прасковья что было силы принялась трясти сгорбившуюся над кучкой белья фигурку в широковатом зеленом кафтане.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ. Да что ты говоришь, Параша? Что ты покойницу зря поминаешь? Умерла моя Аксиньюшка, царствие ей небесное, а я вот остался. Я еще долго жить буду, чтобы ее грехи замолить.