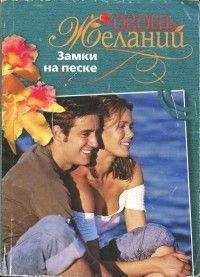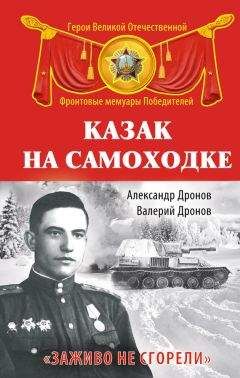АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ. Что же Он не рассудит?
Сказав это, он посмотрел на небо.
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ РАБЫ КСЕНИИ. Он ждет... А чего Он ждет — нам знать не дано. Мы посоветовались и к тебе стопы направили. Отпусти моего брата, вернись ко мне, радость! Не смущай нас понапрасну!
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ РАБА АНДРЕЯ. А то ведь Он ждет, ждет, да и не захочет больше ждать.
Андрей Федорович вздохнул.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ. Это вы меня смущаете. Я Аксиньюшку свою схоронил, ее грехи замаливаю, мне недосуг. Что же ты, рабы Ксении ангел-хранитель, ее от смерти без покаяния не уберег?
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ РАБЫ КСЕНИИ. Как ты можешь знать Божий замысел?
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ. Не могу. Может, он таков, чтобы всякий испытание имел? Меня Аксиньюшкой испытывают: молебны в храмах служить велю, сам в тепле полеживая, или с молитвой пойду по миру для спасения ее души?
Он повернулся да и пошел прочь, ангелы лишь руками развели, но двинулись следом.
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ РАБЫ КСЕНИИ. А может, и верно — испытание?
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ РАБА АНДРЕЯ. И что же? Он ждет, чтобы мы от нее отреклись и к Нему прилетели? И похвалит нас за это?..
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ РАБЫ КСЕНИИ. Молчи!..
Непонятно было, почему вскрикнул первый ангел — то ли крамолу почуял в словах товарища, а то ли показалось, будто с неба летит долгожданный глас. Оба повернулись к им одним ведомой точке в высоком небе, но услышали лишь тишину.
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ РАБЫ КСЕНИИ. Время вечерней молитвы. Я все думаю — до сих пор не бывало, чтобы человек от своего ангела-хранителя отрекся и чужого выбрал...
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ РАБА АНДРЕЯ. То-то и оно, что не чужого.
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ РАБЫ КСЕНИИ. Может, ты с ней останешься? Ты ей нужен, ты, это твое испытание... А от меня она отреклась...
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ РАБА АНДРЕЯ. Никогда же такого не было, чтобы нас — нас! — испытывали!
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ РАБЫ КСЕНИИ. Не введи нас во искушение...
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ РАБА АНДРЕЯ. А вот ведь ввел...
И тут Андрей Федорович обернулся. И, покопавшись в кармане, достал копейку, внимательно ее разглядел.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ. А вот царь на коне. Помолитесь, убогие, за мою Аксиньюшку!
Он разжал руку — копейка упала в грязь.
Андрей Федорович покивал, глядя, как растерявшиеся ангелы смотрят под ноги, и прошел между ними, и пошагал туда, откуда пришел, бормоча невнятно молитву.
Сцена одиннадцатаяАнета и Лизета наблюдают из кареты, как где-то вдалеке бредет Андрей Федорович.
АНЕТА. Экое дурачество! И нарочно такого не вздумать. Беспримерно!
ЛИЗЕТА. И ходит в его кафтане? Так это, выходит, она?..
АНЕТА. Она самая, полковница Петрова.
ЛИЗЕТА. И в дом не заходит? Спит на церковной паперти?
АНЕТА. Где спит — кто ж ее знает? А дом Парашке отдала, я ее помню, Парашку Антонову? Такая кобыла! То бесприданница была, теперь сразу целый дом в приданом, того гляди, к ней свататься начнут.
ЛИЗЕТА. Так дом отдать — это же бумаги писать надо! Дарственную, что ли! Мне вот страсть как хочется домком разжиться, я и узнавала.
АНЕТА. С бумагами тоже там что-то было, мне рассказали. Парашка-то испугалась — ну как родня петровская из дому выгонит? Пошла прямо во дворец! До самого начальства добралась. Сказывали — как-то утром карета у дома останавливается, конные рядом! Из кареты монах выходит и — в дом. Потом Парашка объяснила — бывший полковника начальник приезжал, она к нему нарочно Аксинью приводила. Та пришла...
ЛИЗЕТА. Монах?
АНЕТА. Да отец Лаврентий, поди! Он ведь церковным хором заправляет — вот и начальство, полковник Петров у него в подчинении был. В дом Аксинья не вошла, в саду ее тот монах уговаривал. Потом Парашка рассказывала: диву далась, до чего хозяйка разумно отвечала. Только на имя не откликалась — а чтобы звали Андреем Федоровичем. И как-то они договорились, чтобы Парашке в доме жить. Правда, к тому времени она, Аксинья, чуть ли все имущество в церковь потаскала. Охапками носила и на паперть клала. А Парашке много ли надо? Ее-то комнатка цела.
ЛИЗЕТА. Крепко же она его любила...
АНЕТА. Ты мне про любовь не толкуй! Что ты в ней понимать можешь?! Любовь... Любовь, Лизка, это... Это вспыхнет, опалит — и нет ее больше, и не понимаешь, что же это такое с тобой было...
ЛИЗЕТА. Не хотела бы я до такой любви дожить, чтобы через нее разума лишиться. Погоди, душа моя, настанут холода — твоя Аксинья живенько в разум придет. И с любовью своею вместе...
Сцена двенадцатаяАндрей Федорович брел, жуя на ходу краюху. Его нагнал отец Василий.
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Аксинья Григорьевна!
Андрей Федорович даже не обернулся.
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Ну что ты сама маешься и сродственников изводишь? Да повернись, когда с тобой говорят! Аксинья Григорьевна!
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ. Оставь, не тревожь покойницу. Зачем вы все мою Аксиньюшку тревожите?
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Ну... Андрей Федорович!..
Вот теперь можно было повернуть к нему лицо.
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Андрей Федорович, послушай доброго слова, вернись домой. Что ты, право? Осень близко. Лучше ли будет, коли тебя дождь и холод под крышу загонят? А так — своей волей вернешься. Глядишь — и сжалится над тобой Господь.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ. Сжалится?
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Слезы тебе вернет. Покойников ведь оплакивать нужно. Слезы Господу угодны. Выплачешься — молиться вместе будем.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ. Слезы?.. Нет, нет, на что мне?!
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Молиться-то и под крышей можно. А то, хочешь, в храме Божьем хоть весь день поклоны бей. И в монастырь постричься можно. Зачем же по улицам ходить, народ смущать?
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ. Не стану. Мне тут молиться надобно.
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. На улицах? Чем же улица лучше кельи? Чем?
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ. Тут меня Господь видит!
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ. Вон оно что — гордыня! Не Бог, а люди тебя видят. Да и смеются. Слоняешься, прости Господи, пристанища не имея, как Вечный жид!