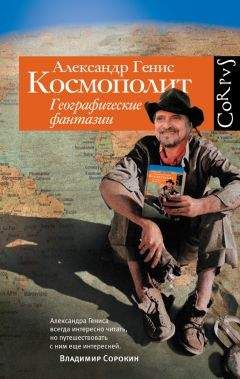— Уилл, довольно, — мягко попросила мама.
— Нет, рассказывай, папа. Я хочу знать! — сказал я.
— Тебе пора спать, Майк, — заметил отец и потрепал меня по голове своей большой загрубевшей рукой. — Хочу рассказать тебе еще об одном деле, только вряд ли ты меня поймешь. Я и сам не пойму толком. Пожар на «Черном пятне» — как страшный сон… И все же, думаю, дело не в том, что белые ненавидели нас, черных. И даже не в том, что «Черное пятно» находилось неподалеку от Вест-Бродвея, района, где живут богатые люди. Нет, «Белый легион» пустил здесь корни не потому, что так велика была у них ненависть к бродягам и темнокожим, гораздо сильнее, чем у легионеров в Портленде, Льюстоне и Брассуике. Все дело в том, что семя упало на благодатную почву. А в нашем городе все гадкое, низменное произрастает быстро. Всякий раз убеждаюсь. Не знаю, чем это объяснить, но это факт.
Конечно, не все у нас плохо. Хорошие люди не перевелись, были они и тогда. Когда хоронили сгоревших, на улицы вышли тысячи, не только темнокожие, но и много белых. Предприятия не работали почти неделю. В больницах лечили бесплатно. Люди от чистого сердца присылали семьям погибших соболезнования и корзины с провизией. Искренне хотели помочь. Я в ту пору познакомился с Дьюи Конроем, мы подружились. Ты ведь знаешь: черной крови в нем ни на йоту, белее кожи вроде бы не бывает. Он для меня все равно что брат. Я за Дьюи умереть готов, и хотя чужая душа потемки, думаю, случись что, и он бы отдал за меня жизнь.
После того поджога нас, оставшихся в живых, раскидали по разным частям. Меня направили в Форт Худ, там я прослужил шесть лет. Познакомился с твоей матерью. Свадьбу сыграли в Гальфстоне, у ее родителей. Но все эти годы я не забывал о Дерри. После войны мы переехали сюда, потом родился ты… И вот ведь как получилось: живем в каких-то трех милях от того места, где когда-то было «Черное пятно». Ну, дружище, пора тебе спать.
— Но я хочу услышать про поджог! — вскричал я. — Расскажи, папа.
Отец хмуро посмотрел на меня, как обычно, когда хотел меня осадить, и больше я не настаивал. Быть может, потому что осаживал он меня крайне редко: отец не был мрачным, все больше улыбался.
— Это не для детей, Майк. Вот подрастешь — расскажу. Через несколько лет…
А рассказал он мне про поджог только спустя четыре года, к тому времени он уже был не жилец на этом свете. Лежал на койке в больничной палате, накачанный обезболивающими, то и дело терял сознание, а его внутренности пожирал рак.
26 февраля 1985 года
Перечел свои записи в тетради и, неожиданно для себя, разрыдался: отец умер двадцать три года назад, а кажется, как будто вчера. Помню, я чуть не обезумел от горя и ходил как потерянный почти два года. В 1965 году я окончил среднюю школу. «Как гордился бы тобой отец», — сказала мама, мы разрыдались и обняли друг друга. И похоже, с тех пор я уже не плакал при упоминании отца. Но кто знает, сколько времени суждено нам скорбеть по усопшим родным и близким? Может статься, спустя тридцать — сорок лет после смерти ребенка, брата или сестры человек словно выйдет из забытья, скорбь и горечь нахлынут с новой силой и вновь появится чувство осиротелости, которое не оставит уже до самой смерти.
Демобилизовался отец в 1937 году, получил пенсию по инвалидности. К тому времени армия стала больше походить на настоящую армию, всякий, даже далекий от военных проблем человек понимал, что скоро заговорят пушки и снарядов не напасешься. Отец дослужился до сержанта, но под конец службы стал жертвой несчастного случая: на учениях новобранец выдернул из гранаты чеку и, перепугавшись, бросил гранату отцу под ноги. Она завертелась волчком и взорвалась, как будто кто-то кашлянул в ночи, рассказывал потом отец. Ему оторвало половину правой ступни.
В то время на учениях использовали оружие с дефектами: снаряды валялись на складах так долго, что нередко теряли убойную силу, пули не вылетали из ствола, ружья разрывались в руках стрелков, на вооружении флота были торпеды, которые не только не достигали цели, а вообще шли непонятно куда, а если и попадали в цель, то не взрывались. В авиации тоже творилось невесть что: у самолетов при жесткой посадке отрывались крылья. В воспоминаниях одного интенданта упоминается случай, произошедший в 1939 году в Пенсаколе: застряла колонна грузовиков; оказалось, тараканы проели всю резину — шины и приводные ремни.
Так что благодаря бюрократическому головотяпству и никудышному оружию жизнь отца была спасена, не говоря уж о вашем покорном слуге, Майкле Хэнлоне. Отец отделался легким увечьем, а могло бы закончиться смертью.
Получив пенсию по увечью, он женился на моей матери Роузи Райветер на год раньше запланированного. Они не сразу поехали в Дерри, поначалу перебрались в Хьюстон, где отец до конца войны работал мастером на военном заводе, выпускавшем корпуса авиабомб. Но, когда мне было лет одиннадцать, отец как-то признался: мысль о возвращении в Дерри не оставляла его ни на минуту. Теперь я часто размышляю о том, что слепая сила, завлекшая моего отца в Дерри, и роковые обстоятельства, приведшие меня августовским вечером на Пустыри, быть может, вещи одного порядка.
Отец выписывал деррийскую газету «Ньюс» и внимательно следил за объявлениями о продаже земельных участков. У него были некоторые сбережения. Наконец на глаза отцу попалось объявление о продаже фермы под Дерри, условия показались приемлемыми, во всяком случае, на бумаге, и родители выехали из Техаса смотреть участок; в тот же день по приезде они купили его. Отцу оформили закладную сроком на десять лет. Так мои родители поселились в Дерри.
— Поначалу было тяжело, — рассказывал отец. — Некоторые местные жители на дух не переносили негров, тем более негров-соседей. Мы знали, на что шли, — я не забыл поджог «Черного пятна» и твердо решил не давать волю чувствам. Ребятишки били нам окна, кидались камнями и банками из-под пива. За первый год я поменял, наверное, стекол двадцать. Но, кроме детишек, были еще взрослые. Однажды утром мы обнаружили на курятнике измалеванную свастику, какой-то сукин сын отравил всех цыплят. С тех пор я их не разводил.
Мы обратились к шерифу графства — в ту пору в Дерри не было начальника полиции, так как городок был небольшой. Шериф немедленно начал расследование. Вот почему, Майк, я убежден, что в Дерри далеко не все плохо. Этому Салливану — так звали шерифа — было все равно, черный ты или белый, вьются у тебя волосы или прямые. Он сам взялся за это дело, разъезжал, опрашивал людей и наконец нашел того стервеца. И как ты думаешь, кто им оказался? Попробуй отгадать. Даю тебе три попытки, первые две не считаются.