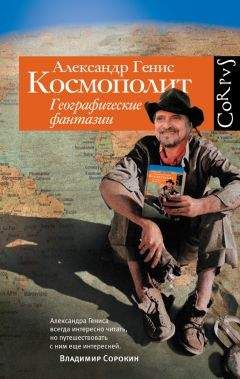Мы обратились к шерифу графства — в ту пору в Дерри не было начальника полиции, так как городок был небольшой. Шериф немедленно начал расследование. Вот почему, Майк, я убежден, что в Дерри далеко не все плохо. Этому Салливану — так звали шерифа — было все равно, черный ты или белый, вьются у тебя волосы или прямые. Он сам взялся за это дело, разъезжал, опрашивал людей и наконец нашел того стервеца. И как ты думаешь, кто им оказался? Попробуй отгадать. Даю тебе три попытки, первые две не считаются.
— Понятия не имею, — ответил я.
Отец засмеялся, под конец у него даже брызнули слезы. Достал из кармана большой белый носовой платок, утер слезы и громко сказал:
— Батч Бауэрс, вот кто! Отец парнишки, который у вас в школе считается самым отъявленным хулиганом, редкостный был стервец, и сын в папашу уродился.
— Ребята в школе говорят, отец у Генри того… с приветом, — заметил я. В ту пору я учился в четвертом классе и натерпелся от Генри немало унижений, особенно он был щедр на пинки. Кстати, именно от Генри я еще в первом классе впервые услышал уничижительные обращения «черный» и «черномазый».
— Я тебе вот что скажу. То, что у Батча не в порядке с мозгами, вполне вероятно. Он служил морским пехотинцем, воевал с японцами. Как вернулся с войны психованный, так все не может прийти в себя. Шериф заключил его под стражу. Батч кричал, что это все нарочно подстроено и что шериф — прихвостень негров. Грозился посадить всех и вся. Если бы составили список тех, кого он хотел упечь за решетку, то этот список протянулся бы до Витчем-стрит. Не знаю, как он хотел их всех посадить, у самого-то, поди, трусы залатанные, но кого Батч только не проклинал: меня, шерифа, городок Дерри, графство Пенобскот. Он метал громы и молнии.
Ну а потом — правда, я сам того не видел, знаю со слов Дьюи Конроя — шериф поехал в Бангор, где сидел в тюрьме Батч, и сказал ему так: «Кончай эти разговоры. Послушай, Батч. Этот негр не хочет доводить дело до суда. Он мог бы упечь тебя в Шоушенк, но зачем ему это? Ему что нужно? Чтобы ты заплатил компенсацию за цыплят. Двести долларов, говорит, будет достаточно».
«Двести долларов?! А в жопу ты их не хочешь?»
«Послушай, Батч, там в Шоушенке есть известковый карьер. Два года кайлом по…ячишь, язык станет зеленый, как леденец. Так что выбирай».
«Ни один суд присяжных не осудит меня за каких-то цыплят черномазого».
«Я знаю», — говорит шериф.
«А чего же ты ко мне при…ался?»
«Протри глаза, Батч. Тебя посадят не за цыплят, а за свастику, которую ты намалевал на двери курятника».
У Батча буквально челюсть отвисла. Шериф ушел, дав время ему на размышление. Спустя три дня к Батчу приехал брат, тот самый, который потом по пьяному делу замерз на снегу во время охоты. Батч велел ему продать новый «меркурий», купленный им после дембеля. Так я получил двести долларов, а Батч поклялся «запалить» меня. Всем друзьям своим протрепался. Как-то я его нагнал на машине. (Батч купил вместо «меркурия» довоенный «мерседес», а я был на пикапе), отрезал ему путь и от Витчем-стрит погнал к депо. Достаю винчестер.
«Только попробуй, — говорю, — запалить, поймаю и всажу пулю, гад».
«Ты чего со мной так разговариваешь, черный. — А у самого губы трясутся — и бесится и боится. — Так с белыми людьми не разговаривают».
Ты знаешь, достал он меня, Майк. Чувствую, если я сейчас ему мозги не вправлю, то потом он мне прохода не даст. Вокруг ни души. Просунул я руку в кабину, схватил его за волосы, а правой — винчестер ему под подбородок.
«Только еще вякни «черный», «черномазый», шлепну на месте, мозги вытекут. Понял? И еще учти: попробуешь запалить, я тебя поймаю и продырявлю. И жену твою, и сынка, и братьев. Вот ты где у меня сидишь».
Тут он в слезы — мерзкое, надо сказать, зрелище, ничего хуже не видел.
«Как же так, что ж получается, — говорит, — среди бела дня какой-то чер… черт берет трудящегося на пушку».
«Да, — отвечаю, — не иначе светопреставление. Но я не про то. Важно, чтобы мы понимали друг друга. Ты ведь не хочешь, чтобы у тебя мозги потекли».
Батч понял, что я шутить не намерен, извинился и больше подлянок не делал, разве что… хотя кто его знает. Доказательств у меня никаких. Может, это он отправил на тот свет пса Чиппи. А может, не он. Может, Чиппи сам сожрал какую-нибудь отраву.
После этого нас оставили в покое. Сейчас вспоминаю тот случай и, честно говоря, не сожалею. Жилось нам тут хорошо, ну а если порой приснится пожар на «Черном пятне», так чему удивляться: и не такое еще снится.
28 февраля 1985 года
Столько дней прошло с тех пор, как я начал писать о поджоге «Черного пятна» — историю, что рассказал мне отец, а все еще к ней не подобрался. Кажется, у Толкиена во «Властелине колец» сказано: «Одна дорога приводит к другой». На первый взгляд как будто все просто: спускаешься с крыльца на тротуар, а в итоге оказываешься невесть где, на самых причудливых тропах. То же самое рассказы. Одно событие, другое, пятое, десятое — смотришь, уже заплутал. Может, они уводят тебя куда надо, а может, и нет. Может, в конечном счете не столько важны сами рассказы, сколько внутренний голос, побуждающий рассказывать.
Мне хорошо знаком этот голос. Это голос моего отца, низкий, неторопливый, нередко смешливый.
Голос отца.
Десять часов вечера. Библиотека уже час как закрылась. За окнами холод. Слышно, как шуршит за стеклом мокрый снег, бьется в окна коридора, ведущего в детскую библиотеку. Доносятся и другие звуки: вкрадчивые скрипы и стуки за пределами светового круга, где сижу я, склонившись над пожелтевшим линованным блокнотом. Обычные для старого здания звуки, утешаю себя, но почему-то тревожно. В голову лезут нехорошие мысли: может статься, там, в ночи, под вьюгой стоит клоун и продает свои воздушные шары.
Прочь, прочь эти мысли. Кажется, я наконец подступил к рассказу о поджоге. Я слышал его в больничной палате за шесть недель до смерти отца — последнее, что я от него слышал.
Я навещал отца дважды в день: сначала с матерью после полудня, потом один. Матери приходилось заниматься хозяйскими делами, и она просила, чтобы вечером ездил я. В больницу отправлялся на велосипеде. Мать не хотела, чтобы я ходил пешком в позднее время.
Эти шесть недель мне, пятнадцатилетнему подростку, дались очень тяжело. Я очень любил отца и возненавидел эти вечерние свидания: больно было смотреть, как он мучается и угасает. Иногда у него вырывался стон, хотя отец был мужественным человеком и терпел. Возвращался я уже в сумерках и невольно вспоминал лето 1958 года; как и раньше, я боялся обернуться: а вдруг там клоун, или человековолк, или мумия, или птица. Но больше всего я боялся, что бегущее за мной по пятам Оно примет облик отца, и я увижу перекошенное от боли лицо ракового больного. И я крутил педали изо всех сил, не обращая внимания на бешеный стук сердца. Приезжал домой раскрасневшийся, взмыленный, запыхавшийся, и мать удивлялась: «Зачем ты так гнал? Надорвешься». «Хотел вернуться вовремя, помочь тебе по хозяйству», — отвечал я. Мама обнимала меня и говорила, что я хороший сын.