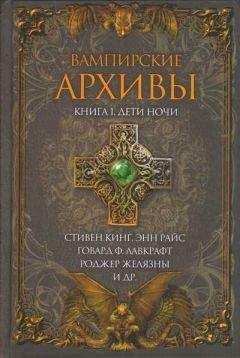— Семеро спят, семеро нет, — произнесла Бьянка. — Древо к древу. Кровь к крови. Ты ко мне.
Раздался звук, подобный семи гигантским разрывам, — далеко, за деревьями, за щебеночной дорогой, за фруктовым садом, за подземным ходом. А затем — семь тяжелых шлепков босой ноги. Ближе. И ближе. И ближе.
Гоп, гоп, гоп, гоп. Гоп, гоп, гоп.
Во фруктовом саду — семеро черных, встрепенувшихся. На щебеночной дороге, между кустов живой изгороди — семеро черных, крадущихся. Кусты шуршат, ветки трещат.
Через лес, на поляну — семеро корявых, согбенных, низкорослых существ. Древесно-черная мшистая шерсть, древесно-черные лысые маски. Глаза — сверкающие щели, рты — сырые пещеры. Бороды — лишайник. Пальцы — сучковатые хрящи. Ухмыляются. Падают на колени. Прижимают лица к земле.
— Добро пожаловать, — сказала Бьянка.
Королева-Колдунья стояла перед окном со стеклом цвета разбавленного вина. Но смотрела она в магическое зеркало.
— Зеркало. Кого ты видишь?
— Я вижу вас, госпожа. Я вижу человека в лесу. Он вышел на охоту, но не на оленя. Его глаза открыты, но он мертв. Я вижу все на земле. Кроме одного.
Королева-Колдунья зажала ладонями уши. За окном лежал сад, пустой сад, лишившийся семи черных и корявых карликовых деревьев.
— Бьянка, — выдохнула Королева.
Окна были завешены, и свет не проникал в них. Свет лился из полого сосуда — сноп света, точно копна золотистой пшеницы. Свет горел на четырех мечах — мечах, показывающих на восток и на запад, на юг и на север.
Четыре ветра свистели в покоях, играя серебристо-серой пылью Времени.
Руки Королевы-Колдуньи покачивались подобно трепещущим на ветру листьям, сухие губы Королевы-Колдуньи читали нараспев:
— Pater omnipotens, mittere digneris sanctum Angelum tuum de Infernis.[78]
Свет померк и вспыхнул еще ярче.
Там, меж рукоятей четырех мечей, стоял Ангел Люцифиэль, весь золотой, с укрытым тенью лицом, с раскинутыми, полыхающими за спиной крыльями.
— Ты взывала ко мне, и я знаю твою беду. Желание твое печально. Ты просишь о боли.
— Ты говоришь мне о боли, Владыка Люцифиэль, ты, который претерпел самую мучительную боль на свете.
Боль худшую, чем причиняют гвозди в ступнях и запястьях. Худшую, чем причиняют терновые шипы, и горькая чаша, и острие копья в боку. Тебя призывают для злых целей, но только не я, ведь я понимаю твою истинную природу, сын Божий, брат Сына Божия.
— Значит, ты узнала меня. Я дам тебе то, что ты просишь.
И Люцифиэль (которого называли Сатаной, Царем Мира, и который тем не менее являлся левой рукой, зловещей рукой замыслов Господа) выдернул из Эфира молнию и метнул ее в Королеву-Колдунью.
Молния попала женщине в грудь. Женщина упала.
Сноп света взметнулся и воспламенил золотистые глаза Ангела, и были глаза Ангела ужасны, хоть и лучилось в них сострадание, но тут мечи рассыпались, и Ангел исчез.
Королева-Колдунья тяжело поднялась с пола — не красавица более, но морщинистая, растрепанная, слюнявая старуха.
В самом сердце леса солнце не светило никогда — даже в полдень. В траве мелькали цветы, но бледные, бесцветные. Под черно-зеленой крышей царили вечные густые сумерки, в которых лихорадочно мельтешили мотыльки и бабочки-альбиносы. Стволы деревьев были гладкими, точно стебли водорослей. Летучие мыши порхали днем, летучие мыши и птицы, считавшие себя летучими мышами.
Здесь стоял склеп, поросший мхом. Выброшенные из него кости валялись у корней семи искривленных карликовых деревьев. Или того, что выглядело деревьями. Иногда они шевелились. Иногда во влажных тенях поблескивало что-то вроде глаза или зуба.
В прохладе, даруемой дверью гробницы, сидела Бьянка и расчесывала волосы.
Какое-то движение всколыхнуло плотный полумрак.
Семь деревьев повернули головы.
Из леса вышла старуха — сгорбленная, со склоненной головой, хищная, морщинистая и почти безволосая, словно гриф.
— Ну вот наконец и мы, — прошамкала карга хриплым голосом стервятника.
Она подковыляла ближе, бухнулась на колени и поклонилась, ткнувшись крючковатым носом в торф и блеклые цветы.
Бьянка сидела и смотрела на нее. Старуха поднялась. Во рту ее редким частоколом желтели гнилые зубы.
— Я принесла тебе почтение ведьм и три подарка, — сказала карга.
— Почему ты это сделала?
— Какая торопыга, а ведь всего четырнадцать годков. Почему? Потому что мы боимся тебя. Я принесла подарки, чтобы подлизаться.
Бьянка рассмеялась:
— Покажи.
Старуха сделала пасс в зеленом воздухе. Раз — и в руке у нее оказался затейливый шнурок, сработанный из человеческих волос.
— Вот поясок, который защитит тебя от штучек священников, от креста, и от потира, и от поганой святой воды. В него вплетены локоны девственницы, и женщины не лучшей, чем ей положено быть, и женщины умершей. А вот, — второй пасс — и старуха держит лакированную — синь по зеленому — гребенку, — гребешок из недр морских, русалочья пустяковина, чтобы очаровывать и покорять. Расчеши ею волосы — и океанский запах наполнит ноздри мужчин, ритм приливов и отливов забьет им уши, оглушит и скует точно цепями. И вот, — добавила старуха, — последнее, старый символ греховности, алый фрукт Евы, яблоко красное как кровь. Откуси — и познаешь Грех, коим похвалялся змий, да будет тебе известно. — Старуха сделала третий пасс и выудила из воздуха яблоко. Плод, шнурок и гребень она протянула Бьянке.
Девушка взглянула на семь корявых деревьев.
— Мне нравятся ее подарки, но я не вполне доверяю ей. Лысые маски высунулись из лохматых бород. Глазные щели сверкнули. Сучковатые лапы щелкнули.
— Все равно, — заявила Бьянка, — я позволю ей самой повязать мне поясок и расчесать мои волосы.
Старая карга жеманно повиновалась. Точно жаба, вперевалочку, приблизилась она к Бьянке. Она завязала пояс на ее талии. Она разделила на пряди эбеновые волосы. Зашипели искры — белые от пояска, радужные от гребня.
— А теперь, старуха, откуси кусочек от яблока.
— Какая честь, — кивнула ведьма, — ох и покичусь же я, рассказывая моим сестрам, как разделила сей плод с тобой.
И старая карга впилась кривыми зубами в яблоко, шумно чавкая, отгрызла кусок и проглотила, облизываясь.
Тогда Бьянка взяла яблоко и тоже откусила.
Откусила, закричала — и задохнулась, подавившись.
Прыжком вскочила она на ноги. Волосы взметнулись над ней подобно грозовой туче. Лицо стало синим, затем серым, затем вновь белым. Она упала в мертвенно-бледные цветы и осталась лежать — не шевелясь, не дыша.
Семь карликовых деревьев замахали скрипучими конечностями, замотали косматыми башками, но тщетно. Без искусства Бьянки они не могли прыгать. Они вытянули когти и вцепились в реденькие волосенки и плащ старухи. Но карга пробежала меж ними. Она пробежала по залитым солнцем лесным землям, по щебеночной дороге, по фруктовому саду, по подземному ходу.