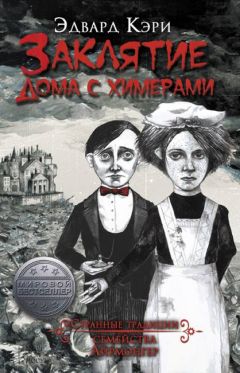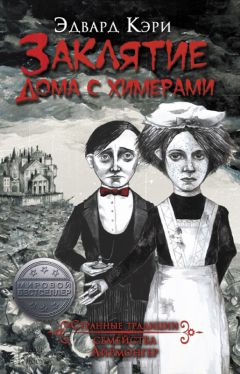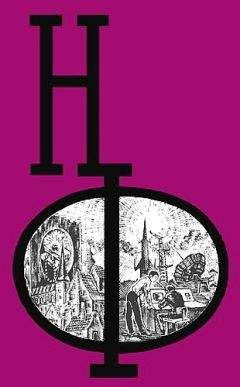Тем временем все хором затянули старинный похоронный плач, своего рода гимн Айрмонгеров, и я шевелил губами вместе со всеми.
Голубою невинной весною
Моих юных безоблачных лет
Я лучился своей новизною,
Ожиданием встречи согрет.
В мир, исполненный света и песен,
Ты домой меня бережно нес —
Я был горд, что кому-то полезен
И что есть на меня нынче спрос.
Что мне было желать лучшей доли,
Коль ты с пылом сдувал с меня пыль,
Ты поставил меня в главном холле
И лелеял меня, и холил.
Ты бока натирал мне до блеска,
Дабы гость, преступивши порог,
Прослезился и вымолвил веско:
«О таком и мечтать я не мог!»
Только лето промчится, а осень
Постучится промозглым дождем,
Кто-то дверь распахнет — да и бросит,
Будто он здесь совсем ни при чем.
И в осеннее злое ненастье
Я низринут в подстольную тьму —
Я разбит, я забыт, я несчастен
И не нужен уже никому.
Во время песнопения я окинул взглядом темную массу стенающих на все лады моих родственников — ничего нового я, разумеется, не увидел: все те же мрачные затылки, у кого-то стриженые, у кого-то с курчавыми волосами по самые плечи, у кого-то спрятанные под беретиком, но… была одна голова, что вовсе не клонилась долу, как все прочие, а, наоборот, надменно возвышалась над толпой; более того, она была повернута в мою сторону, она сверлила меня взглядом! Эта голова принадлежала не кому иному, как моей кузине Пайналиппи. Никакого особого чувства в ее взгляде я не заметил, он просто сверлил меня. Этот взгляд я запомнил. Песня тем временем продолжалась:
Не дозволь же случиться такому,
Чтоб в декабрьский скрипучий мороз
Мне отказано было от дома
И в снегах я на свалке замерз.
Чтобы прах мой, развеянный ветром,
Не был вечным укором тебе,
Помни тех, за кого ты в ответе,
И немой моей внемли мольбе.
В летний зной или в зимнюю стужу
Пребывая с собою в борьбе,
Знай: ты когда-то кому-то был нужен.
Так, как кто-то был нужен тебе.
А иначе, уже безымянный,
Средь таких же забытых, как я,
Попираемый сапогами,
Здесь умрет твой безмолвный судья.
С этими словами семья разошлась по разным углам. Я подождал, пока они ушли, пожал руку Туммису, пожелав спокойной ночи, и отправился восвояси, содрогаясь от мысли о завтрашнем свидании с Пайналиппи.
7 Черепаховый рожок для обуви
Повествование Люси Пеннант продолжается
Служанки провели меня по коридору в еще одну комнату, где стояли вешалки и столы. Мне выдали новую одежду — простое черное платье, обычные туфли на плоской подошве и белый чепец — то же, что носили они все. На чепце был вышит красный лавровый лист. Мне сказали, что я должна переодеться, указав на маленькую кабинку без двери, но с небольшой занавеской. Я переоделась. Одна из женщин свернула мою старую одежду и унесла ее. Мне было все равно — та одежда была из сиротского приюта. Прощай, кожаный колпак, я не буду скучать по тебе ни минуты. Оставшиеся женщины, часть которых была представлена девушками моего возраста, пригладили и причесали меня. Они кивали и почти мурлыкали, все время повторяя:
— Все в порядке. Все в порядке.
— А разве кто-то говорил, что нет? — ответила я.
Одна пожилая женщина прошептала:
— Как же нам повезло! Новая родственница! Мы все здесь одна семья. Теперь ты дома, наконец-то ты оказалась там, где и должна быть. Не сомневаюсь, что ты много где бывала, но забудь об этом. Теперь ты дома.
Мне сказали, что пришло время встретиться с моей семьей, и проводили обратно на кухню. Все повара и обслуга собрались, чтобы внимательно меня рассмотреть. Меня подводили к каждому из них, и они по очереди говорили мне:
— Добро пожаловать домой.
— Ах, добро пожаловать! Наконец-то она здесь, дома! Дома!
— Дома!
— Дома!
Казалось, они были очень рады меня видеть. У некоторых в глазах стояли слезы, и они целовали меня, словно я была для них очень дорогим человеком, вернувшимся после долгой разлуки. Я решила, что все в порядке, и не стала возражать против их объятий. Скоро я уже сама их обнимала. Молодые люди по очереди подходили и крепко прижимали меня к себе, а некоторые, похоже, даже обнюхивали. Среди всего этого тепла и доброты послышалось, как кто-то откашлялся. Все Айрмонгеры пулей бросились на свои места. Я осталась в одиночестве перед очень высоким мужчиной с густыми бровями. На нем была безупречно аккуратная черная фрачная пара и того же цвета галстук. Он поманил меня к себе, и я подчинилась.
— Я, — послышался голос настолько низкий, что в его громыхании сложно было разобрать слова, — мистер Старридж, дворецкий. Я исполняю песню Дома-на-Свалке. Это песня порядка и правильности, звук правоты и достоинства. Это звук самого дома, множества его историй, звук каждой комнаты этого огромного дворца, который, хоть и незаслуженно, является и нашим домом. Мы живем под землей, под теми, кто ходит над нами и стоит выше нас, как и должно быть. Я — держатель, я держатель-всего-на-месте, я щетка и совок, я полироль и щелок. Как твои дела?
Я кивнула здоровяку.
— Добро пожаловать. Завтра, Айрмонгер. — Он сделал небольшую паузу и объявил: — Камины.
При этих словах стоявшие вокруг меня Айрмонгеры-слуги ощетинились, а некоторые стали одобрительно хлопать меня по плечам.
— Ну а сейчас… — сказал дворецкий.
Из-за его спины выступил некто, кого я до этого не замечала. Это был весьма засаленного вида человек, который, как мне сказали, являлся младшим дворецким. Он кивнул мне и позвонил в колокольчик.
Мы все отправились в обеденный зал. В зале стояли несколько длинных столов, и один из них располагался на неком возвышении — за ним сидели мистер Старридж и миссис Пиггот. На столах нас уже ждали дымящиеся блюда с какой-то едой. Рядом с каждым лежало по две ложки: одна была пустой, а во второй имелось что-то коричневато-серое. Затем я увидела главных поваров, мистера и миссис Грум. Они были низкорослыми, бледными и очень похожими друг на друга, словно приходились друг другу братом и сестрой, а не супругами. Но, живя вместе, люди часто становятся похожими друг на друга, я такое раньше уже видела. Они были одинакового телосложения, и их практически невозможно было различить. Оба имели полную грудь, широкие бедра и крупные руки, и оба были одеты в белое — как и положено людям их профессии.
Никто не садился — все стояли перед тарелками и ложками и с вожделением на них смотрели. В колокол ударили еще раз, и они стали на память петь похожую на молитву странную песенку. Они пели негромко, некоторые закрывали глаза, некоторые молитвенно складывали руки.