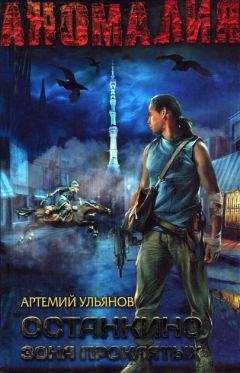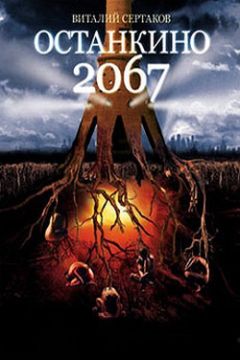— Всяко бывало… Бывало, что и погрязнее работенка доставалась, — задумчиво ответил старик.
— Скажи, Петр… А почему ты мне помочь взялся? Тебе от этого какой толк?
— Я, старик грешный, тебе покаюсь как на духу. Не за тебя я радею, а за свое избавление… Слухай меня, я тебе растолкую. Задолго до дня сего удумал я воли искать, чтобы Орну более не служить. Да только руки на себя наложить колдун мне не позволит. А вот ежели он меня за провинность какую насмерть жрать станет, вот тут-то и явится мне освобождение.
— Ты хочешь, чтоб он тебя убил?
— А что ж еще прикажешь? Иного пути мне не дадено, к кассам дорожка заказана. Да только духу мне не хватает самому супротив Орна пойти. Да ведь и свидеться с ним не часто приходится. А как случается сие, так у меня и душа в пятки. Не могу чрез себя преступить, и все тут… А когда смертные к нам пожаловали, ну тогда-то мне Аристарх и наказал, сурово так, чтоб я с живыми, подобными тебе, якшаться не смел. А коли таковое и приключилось, чтобы ни словом не обмолвился. А ежели путь к спасению укажу тому, кто за ним явится… За эдакое непослушание смертью грозился. Сказывал, что Орн меня живьем сожрет, коли ослушаюсь.
— И что, я первый явился?
— Не первый, а один только. В том вся загадка, что только тот, кто сам в сей предел добрался, сыскав ворота… Да не ради службы аль за страх какой, а токмо за спасением человека… и скумекал, что делать надобно, а после сие и сотворить не убоялся… Вот он один покинуть сие чистилище способен. И тех с собой забрать, о чьем спасении Бога молил да ради кого смертной жизни своей не берег.
— А как ты узнал, что я…
— Мне о тебе Аристарх сказывал. Мол, есть такой, кто кликушу на свет белый выманил, чтоб она ему врата указала. Не ждал Аристарх от меня гордыни да ослушания, не ждал… А я вот и смекнул, что ежели подсоблю тебе, то Аристарх об том вскоре проведает. А уж там и до воли рукой подать. Сожрет меня Орн, ибо с прежних давних времен уяснил себе, что более всего я смерти страшуся. Да только невдомек ему, что я об ней уж добрую сотню лет мечтаю как об избавлении.
— Вот оно что… — побледнев, протянул Васютин. Его интуиция громко и прямо в лицо говорила, что старику надо верить. А это означало, что и выкалывать глаза себе тоже надо.
— А что, если я не смогу? — рывком передернув плечами, предположил Кирилл.
— Уж я в таком разе и не знаю, что со мной они сотворят. Не приведи Господь, станут плоть мою истязать, — ответил старик, понизив голос и боязливо оглянувшись. — Всяк может статься. А коли сдюжишь ты эдакую пытку да покинешь предел, то колдун меня непременно сожрет. — Он вдруг хитро прищурился и, потешно потирая грубые крупные руки, сказал: — А мне токмо того и надобно.
С трудом превозмогая жуткие картины своего ослепления, конвульсивно пляшущие у него в сознании, Васютин обратился к старику, который выжидающе смотрел на него:
— Если я себе глаза выколю, что тогда произойдет?
— Как боль первая лютая отступится, узреешь то, что истинно вокруг тебя. Утварь разная да стены тебе как в тумане привидятся, а вот горетерпцы, коих окрест тебя многие сотни, явятся ясно, как я. А там уж ты и жену с сыном сыщешь.
— И что потом?
— Аристарх к тебе явится. Не ровен час, и сам бес Орн сподобиться может. И вот тогда они тебе да семье твоей выход укажут. А уж если порог его переступите, то на земле грешной враз и очутитесь. Ты уж не оплошай, Кирилка, друг сердечный. Трое нас, и всем нам ты спасителем приходишься. Кому от смерти, а кому и от жизни сей вечной, будь она неладна.
— Не оплошаю я, Петр. Справлюсь, — не своим голосом сказал Васютин.
— Да ты поспешай, а то, отведи Боже, приключится с ними чего. Вечно потом клясть себя станешь, в аду или в райских кущах — все едино. Вот так-то, мил человек.
— Но ведь они живы, да?
— Живы, да, — эхом отозвался уборщик. — Да только как ты знать можешь, что с ними, бедолагами, в грядущий час приключится?
Васютин кивнул, соглашаясь.
— Стало быть, поспешать тебе сам Бог велел, Кирилка. Так-то…
Васютин понимал, что старик прав. Но этот вопрос, только что исподтишка кольнувший его, он не мог не задать:
— А если они в тот момент в провале будут, я их увижу?
— В провале? — чуть удивленно переспросил Петр. — Ты об жертвенной поре речь ведешь, когда люди Орну себя по крохам отдают? Не страшись сего! Вернутся они к тебе, не успеешь и помыслить о том, — успокоил его уборщик, вновь испытующе заглянув ему в глаза, ища там ответ на свой вопрос.
— Ну, — Васютин шумно сглотнул пересохшим горлом, — раз так, то я пойду. Не буду время терять, — сказал он, с ледяным животным страхом прислушиваясь к своим словам.
— С Богом, Кирилка, с Богом, — облегченно произнес Петр. И вдруг спохватился: — Эх, дурак я старый, позабыл тебя напутствовать. Ты, избавитель наш, доколе очи свои не умертвишь, крестным знамением себя не осеняй. От него сияние исходит, нами незримое. А вот Орн с Аристархом его сразу чуют. А потому видят ясно, где человечек мыкается да что с ним творится. А тебе сие не с руки. Вдруг Аристарх супротив воли твоей пойти удумает? Так что крестись в мыслях своих да молитву Господу возноси, уста сомкнув. Уразумел?
— Да. Спасибо, Петр.
— Так с чего меня-то благодарить? То я у тебя в ногах валяться должон, коли избавителем ты моим станешь.
И снова в его глазах читались неуверенный вопрос, робкая надежда и множество сомнений.
— Стану, Петр. Обязательно, — успокоил его Васютин, спрятав в карманы руки, вибрирующие мелкой дрожью.
Внезапно пронзительная вспышка защитного инстинкта прошила его насквозь спасительной догадкой.
— Послушай, Петр… А если я только одного глаза себя лишу? Я же их увижу, да? Одной глазницей увижу?
Старик жалостливо вздохнул, с болью посмотрев на Кирилла.
— Тяжко тебе, бедолага… — нараспев сказал он, блеснув мокрыми глазами. — Ох, тяжко… — сокрушенно покачал он седой головой.
— Увижу, а? Если один оставлю? — срывающимся голосом просипел Васютин.
— Эх, страдалец ты мой любезный, — горестно вздохнул Петр. — Я б и рад тебя утешить, да токмо врать не стану. Увидать тех, кто в сим пределе мучается, возможно станет, коли не будет у тебя более очей твоих. Через них Орн проклятый колдовство свое справляет. И покуда хоть единое око твое живо… По ту пору не будет тебе прозрения, сынок.
Он шмыгнул носом и опустил глаза, стараясь не смотреть на своего избавителя, бледного, превратившегося в комок пульсирующих нервов.
— Укрепись тем, что семью свою из лап беса спасешь. Тебе одному дано сие счастье, о коем прочим лишь мечтать возможно, — громко прошептал он, так и не подняв глаз.