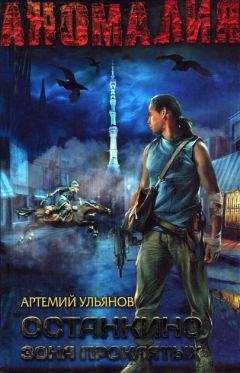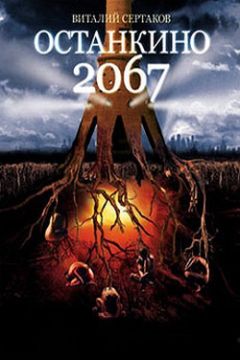— Спасибо тебе, отец. Всю жизнь за тебя молиться буду, чтоб Господь тебя простил, — прерывисто дыша, сказал Васютин.
— Прощай, сынок, — все тем же сдавленным шепотом произнес старик. — Сердцем чую, уж скоро будешь рядом с ними. Коли окажусь я в Царствии Небесном, буду просить Богородицу-заступницу за тебя да за родню твою, чтобы впредь минула вас всякая беда да чтоб от нечистого оберегла вас Матушка наша Небесная.
Его голос звучал глухо и вместе с тем пронзительно и истово, будто слова эти шептал кто-то из апостолов, стоя на плахе. Перед мысленным взором Васютина возникла Тихвинская икона Божией Матери. Напутствие старика отражалось от нее, превращаясь в прозрачную, хрустальной чистоты песнь церковного хора, слова которой он никак не мог разобрать.
Он стал медленно поворачиваться, оставляя за спиной того, кто стал ему спасителем, озвучив страшный приговор, и кому спасителем должен был стать он сам.
— Господь тебе в помощь, — услышал он вслед стариковский шепот.
Безумно захотелось обернуться. Казалось, для того, чтобы еще раз взглянуть на Петра. На самом же деле лишь для того, чтобы отложить грядущую казнь еще на несколько секунд. Нужен был повод, и Васютин вдруг вспомнил, что именно он забыл спросить у старика. Не удержавшись, резко повернулся назад:
— Отец, вот чего… А как Алиса… которая Льюис Кэрролл… она со мной вместе в провал падала… Как она узнала, что мне нужно искать тебя?
— Я, прости Христа ради, не уразумел слов твоих. Кто, говоришь?
— Алиса, Кролик, Шляпник, Гусеница… ты их знаешь?
Не торопясь задавая вопрос, Васютин бесстыдно смаковал каждую долю секунды, что отдаляла его от жертвенника, на котором он оставит свои глаза.
— Я, ей-богу, в толк не возьму, о ком ты меня вопрошаешь, — растерянно пробормотал Петр, виновато глядя на Кирилла.
— С Богом, отец… С Богом, — произнес тот, выкрав еще три секунды драгоценной отсрочки.
— Да пребудет с тобой сила Господня, — отозвался старик. И дрожащей рукой потянулся за кисетом, вдруг отрывисто всхлипнув, глядя вслед уходящему Кириллу.
— Полно те, Петька, — еле слышно бормотал он, не давая воли слезам. — Поди, отмучился ты ужо, грешник. Бог даст, самую малость осталось. Не будет боле подле тебя тряпки. А раз такое дело, пошто слезы-то лить? Негоже эдак… А вот табачку отведать, эт да… Скрути-ка ты, Петька, цигарку. Да сыпь махорку пощедрее. Того запаса, коий у тебя в кисете имеется, тебе, Петя, тепереча до самой смерти вдоволь, да и с порядочным избытком. Коли Кирилка не оплошает, не переведется табачок у Петьки. Во всю жизнь его, грешную, не переведется, ей-богу…
Пока старик шептал эти слова, молясь о своем долгожданном избавлении, Васютин миновал арку из воздушных шаров и покинул «дорогу Орна». Остановившись, он оглянулся. Перед ним стремительно полетели фрагменты тех событий, которые произошли с ним на этой плитке. Фальшивый Женька, заливающий себя кровью, обрывки жизни Игната, окрашенные ужасом последние минуты маленькой Евдокии. А дальше — картины провалов. Борька в огороде, отрубленные пальцы, плевок второгодника…
Резко дернув головой, он стряхнул с себя наваждение. Быстро выйдя из секции «праздников и торжеств», он двинулся в зал на поиски места для своей жертвы, чтобы преодолеть последнюю преграду, отделявшую его от двух самых близких, единственных любимых существ на свете.
В правдивости того, о чем рассказал ему старик с тряпкой, он больше не сомневался. На сомнения не было сил. Они были необходимы ему для другого. Васютин старательно собирал их воедино, словно остатки армии, разгромленной сильным и беспощадным врагом. Сперва он призывал под истрепанное знамя всех, кто мог держать в руках оружие. Потом всех, кто мог хотя бы встать в строй. Сейчас ему сгодились бы даже мертвые, если бы они могли держаться на ногах. Ему нужен был каждый. Немощные, увечные, сломленные и опустошенные, они были обглоданы войной до костей. А впереди… Впереди у них была яростная жестокая атака, безумная в своем самоубийственном кровопролитии и гордящаяся этим безумием. Враг был уже вплотную к ним. Настолько близко, что можно было уловить тепло его дыхания, прорывающееся сквозь скрип стиснутых зубов. Но… его все еще не было видно. Да и немудрено, ведь им предстоял бой против самих себя.
Прожив почти четыре десятка лет, Кирилл мог вспомнить немало дней, когда он противостоял себе. Укорял, стыдил, запрещал, заставлял, образумливал… Бывал даже несправедлив к своей драгоценной персоне. Но то, что ему предстояло сделать, было выше всех этих понятий. Это и впрямь походило на войну. Лишить себя важнейшего органа, враз став настоящим беспомощным инвалидом! Лишить кустарно, болезненно, с риском для здоровья и жизни… И не по жизненным показаниям, а по совету незнакомого пожилого человека непрестижной профессии! Логический аппарат его психики был бессилен объяснить его человеческой природе, зачем это должно произойти. Она бунтовала что было сил, сопротивляясь принятому решению. Васютин-человек и Васютин-животное метались внутри него в пылу яростной драки. Животное делало все, чтобы сохранить Кирилла как здоровую и полноценную особь. Главным инструментом защиты животного был страх, который рос и укреплялся с каждой минутой. Главным инструментом человека был разум, который пытался подчинить себе инстинкты, стоявшие на страже телесной оболочки. Оба Васютиных были так сильны, что в пылу драки вполне могли разрушить Кирилла Андреевича, вогнав его в ступор в самый ответственный момент. Чтобы одержать верх, Васютину-человеку нужен был союзник. Не человек и не животное. Некто третий.
И он появился. Действительно, не человек, ведь для человека в нем было слишком мало рационального. Действительно, не животное, ведь для животного в нем было слишком много возвышенного. На сторону человека встала Любовь. Она кинула всю свою мощь в морду животному, решив исход драки. Взвыв, Васютин-животное попятилось назад, в дальний угол Кирилла Андреевича. Ощетинившись, оно наблюдало оттуда за торжеством любящего человека. Конечно же страх не исчез. Но повелевать Васютиным он больше не мог. И Кирилл почуял эту победу. Вдруг стало немного легче. Появилась ослабевшая уверенность в себе, которая чуть было вовсе не покинула его. Диковато озираясь, она бормотала Васютину на ухо: «Ничего-ничего, соберись… Дыши ровнее, мысли вместо эмоций. Ты же знаешь, как это делается… Все кончится быстро, ожидание куда страшнее. В конце концов, глаза выкалывать — это не ногу ножовкой отпиливать».
С трудом вновь обретя себя, он собрал где-то под сердцем волю, решимость, злость, чувство долга, отвагу и отрешенность. Когда придет их час, они ринутся вперед, толкая зажатый в руках колющий инструмент по направлению к глазным яблокам. Стараясь не поднимать взгляда, чтобы не угодить в провал, Васютин направлялся к отделу канцтоваров. А ведь раньше он и представить не мог, каким страшным может быть это скучное слово «канцтовары». Его звучание эхом разлеталось в сознании на множество значений: «канцер», «товарищ», «канцлер», «кантовать», «концовка»…