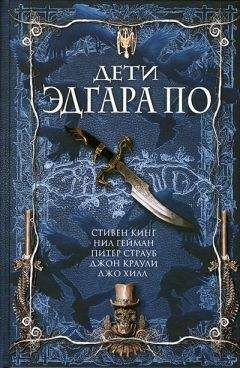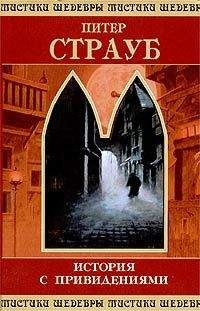То же потом, в гостиной, или в лаборатории, или в покоях, в спальне, где её со всех сторон окружает кокон москитной сетки, мягкой и шелковистой на ощупь.
Несмотря на все слои сетки, москиты с первых дней оставляют на её коже следы укусов.
Но кто приходит танцевать в часы, когда она ещё не ложится. Костлявый. Тонкий. Он тонкий. Как насекомое. Представьте.
Танцует, когда она ещё спит.
Если зверь позабавится с тобой, ты умрёшь, если зверь тронет твою женщину, у неё будут рождаться дети с головами крокодилов, если зверь тронет тебя, ты почувствуешь красную боль в чреслах. Вот что говорят индейцы. И африканцы повторяют то же самое. Индейцы и африканцы одного мнения о звере. Только голландцы твердят что-то другое.
Зверь не шутка. Зверь убивает. Ты знаешь зверя? Безголового зверя эваипаному? Как он живёт без головы? Как он тебя съест без головы? Это загадка. Это вопрос, на который нет ответа. Эваипанома живёт глубоко в джунглях. Но никто не может жить глубоко в джунглях. Только эваипанома, и африканцы, и индейцы, если они беглые. Когда они беглые, то похожи на собак, которые пытаются скрыться от хозяина. Они бегут от жалящего кнута. Женщины бегут тоже. Женщины бегут от кнута. И от того, что с ними делают. Столько раз, сколько пожелают. Хотя они не хотят. И они, как дикие собаки, эти женщины, сбегают в джунгли, куда голландский мужчина идёт за ними, но его съедают крокодилы. Но если он находит собаку, о, нет, о, нет. Если он находит собаку. В джунглях.
Зверь напал и заразил страхом воображение невольников, индейцев с бронзовыми лицами, гордых под ударами кнута, и африканцев, тоже гордых и бдительных.
Белые бьют рабов кнутами, им нет дела, что те ведут свой род от племенных вождей.
Внезапные набеги и захват пленников. Дух, тысячи раз низвергнутый, тысячи раз, скрежет зубов… горечь, горечь.
Но что такое зверь? Джинн демона, прячущегося под водопадами Пики Стон? Скалы высоки, и вода мчится.
Откуда он пришёл, этот зверь, откуда взялся? Разве может зверь появиться ниоткуда? Из ничего? Он должен откуда-то прийти.
Вот он, белый зверь: на плантации Кордова Якоб Кордова наказывает чёрного раба за то, что тот барабанил.
Но глубоко в джунглях, за Никерие, вдоль Сарамакки, за трясинами с крокодилами, в лесной чаще, переплетённой лианами, есть посёлки беглых рабов, там горят огни, там женщины варят на кострах еду у новых хижин, и голландцы не могут пройти туда, их не пускают лианы и крокодилы, и потому чёрные мужчины бьют, бьют и бьют в барабан.
Она заразилась малярией от москитов. Москиты заразили её малярией.
Малярия овладела ею, её глаза затуманились, закипели, её свалил жар, победил москит, и она опустела, её кости опустели, а кожа высохла, стала шершавой и горячей на ощупь, и влажно блестела в затемнённой комнате. Эстер Габай велела повесить на окна толстые тяжёлые шторы, которые не пускают внутрь солнечный свет. И в темноте кажется, будто Мария Сибилла светится, будто светится её кожа. Её губы распухли, надулись, высохли, и язык тоже раздулся и мешает во рту, в забытьи она бредит, но слов не разобрать, они отрывочны и бессвязны. Она бормочет что-то о тюльпане в Нидерландах, о двух речных свиньях, которые приближаются, и погружается в молчание.
Где ты, Мария Сибилла? Мари? Мари? С сильным голландским акцентом.
У неё тяжелеют ноги, замедляется пульс, тяжесть ползёт по ногам вверх.
Нечем дышать, тяжесть душит.
От лихорадки она побледнела, осунулась, губы стали сухими, запёкшимися, бескровными, а наполненный сыростью воздух, как губка, тянет из неё жидкость, по капле вытягивает воду из её тела.
Она там, где никто не живёт, она наполнена тем, что, как ей известно, не может служить пищей.
Впереди она видит ленивца, который в невообразимом блаженстве свисает с ветки в тени дерева мора.
И её сердце тяжело бьётся,
А дыхание учащается.
Она на Серро де ла Компана, на горе, называемой Колокольная, к югу от суринамской саванны.
Белые камни высятся на горе, валуны белеют, они видны отовсюду, они высятся на горе, где нет деревьев, только валуны, валуны до самых вершин.
Или она в кабинете отца, смотрит на стол для рисования, на натюрморт, приготовленный к рисованию.
Это раскрытая книга цветов.
Книга спящих насекомых
Мария. Мария Сибилла.
И она погружается, погружается в лихорадку, и глубже, в свои сны.
Суримомбо с раскинувшимися по покатым холмам полями сахарного тростника, и ломается стебель.
И бледная пустеющая тьма.
Она внутри сетки, москитной сетки, которая щекочет её, словно паутина, когда она пытается пошевелиться, сесть, протянуть руку или повернуться с боку на бок.
Или идёт с Мэтью ван дер Лее по берегу.
Это его конёк, говорит он ей, морской берег.
Он говорит, а его дыхание длится, это из-за отсутствия пауз его дыхание такое ровное.
Африканские рабы прячутся в старых заброшенных садах.
Меж вопящих птиц, среди которых самые громкие — ары, меж обезьян-ревунов, рычащих, как ягуары.
Глаза у неё чёрные из-за расширенных зрачков, укусы испещрили кожу, оставили в её теле свои отложения, посеяли в ней семена малярии, сделав её навсегда уязвимой.
И доктор Петер Кольб, который то входит, то выходит от неё со своей сумкой безделушек, имеет вид сначала строгий, потом серьёзный, потом озадаченный, потом усталый и безнадёжный, покорный, точно он перепробовал всё, что только может предложить его сумка, его руки, его толстые, слегка дрожащие ладони, на дрожь которых никто не обращает внимания, когда он, доктор Кольб, кладёт их сначала ей на лоб, потом на основание горла, и на шею, и на плечи, слушая её дыхание, слушая её тяжёлое дыхание.
А Мэтью ван дер Лее справляется у доктора Кольба, иногда по нескольку раз на дню, справляется о том, как идёт её выздоровление, сам бледный и помятый от тревоги, то поджидая доктора у выхода из её покоев, а то вечером, за картами, чтобы отвлечься.
Но Марта тоже ходит к больной, по ночам, когда её покидает доктор, а Эстер Габай знает об этом и не одобряет, хотя и не запрещает. Марта приносит снадобья для питья и компрессов, и другие, растёртые в кашицу, или растворённые в стакане, и, в конце концов, они её и вылечивают.