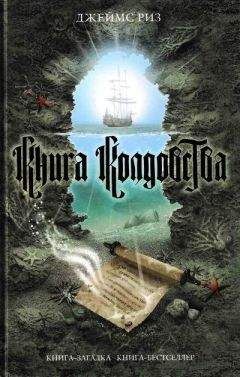— Утя! Утя!
У Каликсто не осталось времени даже на то, чтобы как следует вытереться. Он лишь торопливо промокнул тело своими штанами, затем натянул их, уже на бегу подвязал веревкой и помчался к Диблису, не перемолвившись со мной ни единым словом.
Пока я стояла, не отрывая глаз от Каликсто, я вдруг поняла кое-что: я еще не разбужена. Не в телесном смысле, нет. Это не имело ничего общего с физическим желанием. На самом же деле… Дерзну ли закончить свою мысль? Речь шла о моем духе, о моей душе. Вот именно: все было связано с моею душой, моим духом. Enfin, это и проще, и гораздо сложнее, чем банальная похоть. Я не жаждала и не вожделела Каликсто, хотя зрелище чужого прекрасного тела прежде вызывало у меня именно эти чувства. Сейчас же мне хотелось защищать, опекать его, ибо он был еще ребенок, раза в два меня младше, и крайне нуждался в помощи. Не поймите меня превратно: я видела его красоту и, конечно же, восхищалась ею, но более всего меня тронули его грусть, невысказанная печаль и стыд, о коем он не мог рассказать.
Ничего подобного мне никогда не доводилось испытывать прежде. Во мне пробудились чувства почти родительские. Пока он, сверкая под ярким полуденным солнцем соленой влагой, карабкался на борт «Афея», пока он надевал брюки, пока блестящие капли стекали по его спине, по сильным мускулистым рукам и ногам, пока он отряхивал воду со светлых кудрей, словно белый пудель, и извинялся за то, что прядь волос его хлестнула меня, пока он бежал на зов своего мучителя — все это время я думала об одном: я помогу этому юноше. Но как, как это сделать?
Ночь настала быстро — так часто бывает, когда мы чего-то и ждем, и боимся, — а я все никак не могла составить план действий.
Случилось, однако, в тот день и кое-что обнадеживающее. Поднялся ветер, и мы вошли наконец в полосу благоприятного течения. Теперь почти не было сомнений, что мы придем в Гавану уже к концу следующего дня. То, что суша совсем близко, стало для меня воистину благой вестью. Я не просто хотела поскорее покинуть «Афей» — мне казалось, что это очень скоро может понадобиться. Я не знала, что принесет наступающая ночь, и у меня не было ни времени, ни возможности уединиться, ни соответствующих принадлежностей, чтобы при помощи ясновидения получить нужные сведения. Однако я понимала и без помощи моего Ремесла, магии или вещих снов, что меч судьбы висит над нами на нитке, готовой оборваться. Тогда нагрянет беда.
Добрые вести о ветре и о течении приободрили меня, и я решила сама убедиться в их справедливости. Ветер действительно появился и дул достаточно сильно, чтобы растрепать края моих нелепых пышных манжет на сменной блузе — первая совсем пропотела и теперь висела, проветриваясь, в кубрике. Море стало синим, хотя совсем недавно имело зеленоватый оттенок. Это означало, что мы вошли в воды Гольфстрима. До Кубы было рукой подать.
Во второй половине дня Каликсто вел себя замкнуто, был молчалив и прилежно выполнял свою монотонную работу; он явно радовался, что дела отвлекают его от печальных мыслей. Во всяком случае, так я объясняла для себя его состояние. Бедный юноша имел много причин страшиться приближения ночи — она означала для него совокупление с ненавистным человеком и жгучий позор клеймения посредством Диблисовых игл и чернил.
Почти все члены команды «Афея» могли похвастать какими-либо татуировками. Впрочем, почему же «почти»? Они имелись у всех. Может, их не было у капитана, но проверить это не было возможности, поскольку тот практически не покидал каюты. Когда он все-таки отваживался пройтись (что случалось нечасто) по вверенному ему судну, то всегда выходил полностью одетым, что выдавало в нем человека, питавшего надежды на повышение своего статуса в будущем. Остальные были разрисованы всевозможными картинками, нанесенными не слишком опытными руками — возможно, того же Диблиса. Только один из них, шотландец по имени Эверард, мог похвастаться истинными шедеврами нательной росписи, достойными называться произведениями искусства: обнаженный торс женщины — уроженки южных морей, если судить по ее развевающейся травяной юбке — охватывал его правый бицепс, а на левом красовались пиратские череп и перекрещенные кости. (То и другое — слишком известные символы, не нуждающиеся в дополнительных объяснениях.) На шее красовалась собака — точнее, я решила, что это собака. Когда я сделала ему комплимент по ее поводу — это было единственное, что пришло мне в голову, когда он поймал меня за разглядыванием его татуировок, — он холодно меня поправил: это вовсе не пес, а дракон. Татуировки других членов команды стерлись из моей памяти, за исключением одной, которая со временем превратилась в шрам. Уроженец Коннектикута даже сунул мне под нос тыльную сторону своей правой ладони, чтобы показать морщинистую кожу и ткнуть пальцем в то место, где он — при помощи тупой бритвы и, вероятно, aqua fortis[21] и огромного количества рома — отхватил кусок собственной плоти с надоевшей татуировкой. В результате этой хирургической операции он навсегда обездвижил большой и указательный пальцы, задев соответствующие нервы.
Татуировки среди моряков настолько распространены, что из всех, находившихся на борту «Афея», их не было разве что у меня и у Каликсто. Поэтому никого не удивило, когда Диблис, пока еще не сильно пьяный, но готовый быстро это исправить, начал еще до ужина раскладывать на столе кое-какие инструменты. Когда же мы засиделись за мучнистым пудингом, которым в тот вечер Диблис нас ублажал, он велел всем поскорей выметаться из-за стола.
Каликсто трясущимися руками вывалил в ушат зазвеневшие ложки и тарелки, залил их водою и понес на верхнюю палубу, чтобы помыть. Их место на столе заняли брусочки черной туши и блюдца, чтобы развести тушь водой. Здесь же лежали иглы — бамбуковые палочки с привязанными на концах «трезубцами», составленными из почти прилегающих друг к другу швейных иголок. С их помощью можно было приподнимать и прокалывать кожу, загоняя под нее краску, подобно тому как умелый повар — настоящий un cuisinier, а не такой, как Диблис, — готовил дичь для жарки, помещая специи между кожей и мясом.
Когда ужин был съеден и солнце село, все разошлись по своим делам. Настроение команды немного улучшилось. На «Афее» никогда не царила атмосфера безоблачного счастья, но теперь, когда мы подошли совсем близко к Гаване, матросы предвкушали радости, ожидавшие их в порту. Двое из них заступили на вахту, а остальные занялись содержимым своих сундуков, где хранилась всякая всячина: книжки, бумаги, дневники, письма. Моряки любят возить их с собой и перечитывать в минуты досуга. Капитан, как всегда, скрылся у себя в каюте. Диблис в тот вечер решил прикончить последние запасы спиртного и опорожнить все бочонки, чтобы в Гаване заполнить их чистейшим кубинским ромом. Бедный Каликсто исполнял обязанности поваренка. Он помыл и сложил в груду оловянные тарелки, потом сел у гакаборта, свесив с палубы ноги, и принялся чистить морковь — больше, чем мы смогли бы съесть за полдня, оставшиеся до прихода в Гаванский порт, даже если бы восемь человек на борту «Афея» превратились в сотню прожорливых кроликов. Оранжевые очистки нескончаемой лентой слетали в кильватерную струю, и она уже напоминала порез или шрам, оставляемый кораблем на морской глади. Без сомнения, Диблис решил занять Кэла бесполезной работой, а сам напивался, чтобы обрести мужество и позвать юношу в их каморку. Вскоре он это сделал.