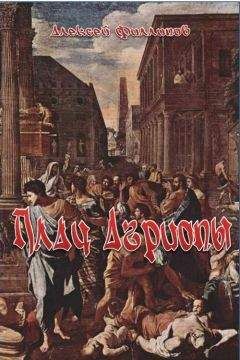«А что ты мне предлагаешь взамен? — рявкнул Третьяков, когда Павел робко поделился с ним своими мыслями. — Вечную нерешительность? Как раз нерешительность — и есть предательство. Самое страшное и худшее из возможных! А знаешь, кого я предам? Тебя и твою дочь! Овода! Многих! Самых слабых, которые имеют право на нерешительность. У меня такого права нет — я сильнее их! Сильнее даже в том, чтобы ошибиться».
Обескураженный горячностью собеседника, Павел не заводил больше этого разговора, но и раза хватило, чтобы обида — змея в тёмном углу души — навернула ещё пару-тройку колец гибким хвостом; отдалила управдома от чумоборцев ещё на пару-тройку шагов и бесед.
На беседах настаивал Третьяков. Он советовал Павлу сделаться кем-то вроде учителя для гостей: просвещать тех насчёт реалий повседневной жизни двадцать первого века. Но интерес к таким урокам проявила, разве что, Тася. Для неё новый мир не так уж отличался от её собственного. Впрочем, и алхимик, и инквизитор были слишком заняты, чтобы непринуждённо болтать с Павлом о пустяках.
Мэтр Арналдо особенно поражал управдома своей неукротимой энергией. Он буквально-таки горел на работе. С того самого момента, как переступил порог квартиры Третьякова, он не знал отдыха. Спал часа по четыре в сутки; в остальное время — суетился возле химических спиртовок и склянок. Создавал пули и порох для серебряного пистоля, заменившего мушкет с рубиноглазой змеёй.
У Арналдо что-то не ладилось: он часто разражался бранью на незнакомом языке и вообще — мало походил на себя — медлительного, раздумчивого, тягучего, как смола, в словах и поступках. Он оборудовал целую лабораторию — в той уютной антикварной спальне, в какой — казалось, уже тысячу лет назад — однажды очнулся Павел. Теперь там воняло: ошеломляюще воняло. У Павла дыбом вставали волосы всякий раз, как он переступал порог спаленки. «Пропала комната», — вертелось в голове. Вонь на долгие века въедалась в стены, полировку и дорогую ткань. Наверное, так думал и Третьяков. Тот попросту сдал спаленку на милость алхимика, будто победителю — крепость, не сумевшую сопротивляться осаде, а сам — отсиживался на кухне. Связь с Арналдо осуществлялась через Павла. Управдом кормил мэтра, поил, а главное — передавал тому ингредиенты для химических экспериментов. А доставлял их в квартиру — всё тот же безотказный богомол — Авран-мучитель.
Это была миссия номер два инквизитора Аврана. Снабжать алхимика ртутью, железом, оловом, сурьмой, серебром, формами для отлития пуль. С нею, как и с продовольственной, первой, он неплохо справлялся. К счастью, сеньор Арналдо не нуждался в чём-то исключительном: в слезе единорога, или крупном бриллианте. Но и россыпь раскуроченных термометров на полу спаленки, вкупе с ажурными подсвечниками, — изумляла. Павел заставлял себя не думать, каким количеством паров ртути наполнил лёгкие за время визитов в импровизированную лабораторию сеньора Арналдо. О технике безопасности средневековый алхимик представление имел, наверняка, весьма смутное. Впрочем, никто из чумоборцев не боялся смерти.
Это удивляло Павла. Страха смерти не было, хоть они совсем не хотели умирать. Никто из них не хотел умирать. Но о смерти — не думалось. Как если бы они негласно решили: сыграть финал от начала до конца, а уж потом оценить сыгранное — целиком, не размениваясь на детали. Как если бы до какого-то момента пьесы ещё можно было отказаться от роли, попросить замены, попросить перекур, попросить партнёров вернуться на шаг назад и отрепетировать что-то заново, — а теперь вот — сделалось поздно. Павел ощущал себя в кремлёвском карауле, — одним из костюмированных бойцов, чей долг — молодцевато щёлкать каблуками и вращать винтовку, в унисон с другими, с точностью атомных часов. Урони такой боец винтовку — и никто из зевак не скажет: «третий справа напортачил, обмишурился». Все скажут: «кремлёвский караул — неумехи». Единица — уже не единица, и даже не часть целого. Единица становится плотью и кровью целого. Становится селезёнкой — одной на всех, — или сердцем — одним на всех, — дружных сиамских близнецов.
И вот — четверо чумоборцев и Павел Глухов начали играть последнюю, неделимую, часть пьесы. И смерть могла ожидать их на любом отрезке неделимого. Итог: ожидать её и бояться не имело смысла. Это значило бы — бояться смерти, отправляясь в сортир, или завтракая консервированным тунцом, — потому как унитаз и консервная банка расположились на том самом — цельнометаллическом, неразрезаемом, неуничтожимом и нерасчленимом отрезке.
Кроме собственного безрассудства и сладкой обречённости, чумоборцам не на что было рассчитывать. После смерти Овода, сильные мира сего оставили их — и покровительством, и, тем более, помощью. Третьякову удалось договориться о чём-то с преемниками седовласого генерала. Павел не выяснял, о чём именно, но видел: коллекционера снабжали информацией, ради него в безопасности сохраняли Татьянку. Во время той, единственной, вылазки за продуктами, в которой принял участие Павел, он заметил и бронемашину неподалёку от двери подъезда. Похоже, им предоставили символическую охрану. Но веры в чудесное, какою был силён Овод, у преемников Овода — не имелось. На чумоборцев более никто не делал ставки. Их не снабжали продовольствием: наверное, сочли организацию кормёжки — непозволительной роскошью. Они, как и другие москвичи, научились обходиться без электричества большую часть суток. И Павла удивляло, что по утрам — часа на три, — и вечерами — обычно с семи до одиннадцати — ток в розетках и проводах всё же появлялся. Скорей всего, ради удивления обывателей его и давали. Может, ещё ради обогрева: заморозки теперь совсем часто навещали столицу. Уже не только по ночам. Уже и с лёгким снежком, который, всё же, пока таял ближе к полудню. Трубы парового отопления стояли ледяными, так что вся надежда оставалась на обогреватели. В квартире Третьякова работали три: один калорифер, согревавший гостиную, — и две допотопных, багровевших обнажёнными спиралями, рефлекторных лампы. Откуда хозяин жилища только выкопал их — Павлу не с руки было задавать этот пустяшный вопрос Третьякову. Спаленка, переоборудованная в лабораторию алхимика, в обогреве не нуждалась: сеньор Арналдо и так топил там спиртом — кочегарил спиртовки, — а иногда и дровами: однажды развёл настоящий костерок прямо у изголовья кровати, чудом не вызвав пожар. А вообще, от электричества было мало толка. Интернет не работал — похоже, сетевой кабель был повреждён где-то за пределами квартиры. Телевидение выдавало в эфир неустанно повторявшиеся предупреждения о недопустимости нарушения комендантского часа. Сообщало о введении чрезвычайного положения в столице. Выпуски новостей, в привычном виде, Павел застал лишь дважды. С дикторами и выездными репортажами: показывали армейские летучие отряды, пресекавшие мародёрство. С крохотной долей позитива: рассказали, что найдены способы лечения ещё пары десятков разновидностей Босфорского гриппа. Если бы Павел не помнил, что новая чума имеет сотни разновидностей, он бы, пожалуй, порадовался за человечество. Похоже, дикторы работали из какой-то резервной, наспех оборудованной, студии: вместо объёмных глянцевых «задников», за их спинами белел гофрированный кусок пластика, похожий на огромную ширму. Толку от дикторов и новостей было не больше, чем от электричества.