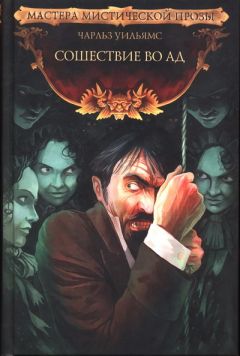Мертвец стоял там, где теперь находилась спальня Уэнтворта, и боязливо прислушивался, не идет ли кто. То прошлое все еще существовало здесь, поскольку прошлое — лишь часть нашей жизни, которую мы перестали воспринимать чувственно. Теперь прошлое приближалось к настоящему; приближалось к чувствам настоящего. Но между ними все еще раздавались — топ-топ — торопливые шаги, которые Маргарет Анструзер услышала на первом круге Холма. Мертвец вряд ли их слышал; его чувства на этом круге привели к смерти. Но по эту сторону мира были и шаги, и эхо, и память шагов. Именно к ним и прислушивался Уэнтворт.
Он вернулся к себе после того, как услышал размеренные и насмешливые шаги Хью и Аделы, их голоса и приглушенный смех. Он расхаживал туда-сюда и наконец остановился у того же окна, откуда выглядывал мертвец. Уэнтворт тоже выглянул. Он прислушался, и его воображение воссоздало звук шагов. Тело содрогнулось, ощутив жаркую волну желания. Желание заставило вслушиваться в ложной надежде. Не может быть, чтобы он не услышал, как звук шагов раздвоится, а потом он просто должен услышать настоящие шаги на улице, возле калитки, на дорожке, ведущей к двери. Там должна возникнуть вполне реальная фигура…
Это должно случиться; его тело сказало ему, что это должно случиться. Он должен получить то, что хотел, потому что… но шагов все не было. Мертвец с веревкой в руках стоял рядом с ним, рука к руке, нога к ноге, и тоже прислушивался, но той ночью никто из них так ничего и не услышал.
Вечер и утро были первым днем или несколькими часами, или несколькими месяцами, или и тем и другим сразу. За ними последовали другие. Дела на Холме шли своим чередом; постановка пьесы подвигалась. Паулина держалась в стороне, а Маргарет уже почти умерла или жила, умирая. Хью ездил в Город и обратно. Адела бродила по Холму. Ее образ захватил Уэнтворта целиком, он каждый миг нуждался в ее присутствии. Но и ему приходилось заниматься своими делами. «Блажен, кто не соблазнится о Мне»;[14] эта максима применима ко многим камням преткновения, особенно к тем, которые приносят удовлетворение одним своим присутствием. Уэнтворт внутренне покрикивал на свое удовлетворение, но с каждым днем все чаще спотыкался о неподвижный камень.
Раз или два он встретил Аделу — один раз у миссис Парри, где им не удалось даже поговорить. Они улыбнулись друг другу странной улыбкой; с обеих сторон в ней сквозил тончайший налет ненасытности, проистекающий из ее незримой природы. Это их ненасытности улыбнулись друг другу. Еще раз он столкнулся с нею и Хью однажды вечером у почты, и улыбка Хью тут же придала характер враждебности и улыбке Аделы. Она приказывала и заставляла подчиняться улыбку Аделы; сковывала и отторгала улыбку Уэнтворта. Она заставила его понять, что он, старый неудачник, взялся тягаться с молодым соперником.
— Ну, как там ваша пьеса? — поинтересовался Уэнтворт.
— Учим роли, — ответила Адела. — Кажется, времени только на пьесу и хватает. Удастся ли нам еще раз провести с вами вечер, мистер Уэнтворт?
— Жаль, что никто из вас не смог прийти, — немного невпопад произнес он. Это покажет им, подумал он, что его не проведешь.
— Да, — сказал Хью; слово повисло двусмысленно. Рассерженный этим, Уэнтворт поспешно продолжил:
— Как провели время в городе? — Он и сам не понял, кому из них адресовал вопрос. А может, обоим?
Адела ответила:
— О, вы знаете, голова кругом. Подбирала расцветки для костюмов и тому подобное.
— Но, к счастью, потом мы встретились, — добавил Хью. — Знаете, мы чуть не налетели друг на друга, правда, Адела? Перекусили на ходу и сразу в театр. Могло быть гораздо хуже.
В голове Уэнтворта звучали шаги. Он видел, как Хью взял Аделу за руку; видел, как она взглянула на него; видел, как они обменялись какими-то недоступными ему воспоминаниями. Звук шагов отчетливо двоился. Шаги шли сквозь него; он хотел отдаться им: жизни и смерти, ненависти и вожделению, соперничающим между собой, и единственный результат их борьбы — топ-топ, шаги на Холме. Он знал, что эти двое просто смеются над ним. Он буркнул что-то относительно вежливое, резко откланялся и отправился домой.
В кабинете он машинально полистал бумаги, осознавая породившее их интеллектуальное напряжение, но не способный им заинтересоваться. Он обнаружил, что уставился на эскизы костюмов для пьесы, и ощутил острое желание порвать их в клочья, навсегда отказаться от этого фиглярства, а потом отказаться и от своего отказа. Но он сомневался, что ему удастся справиться с другой силой, более далекой, чем Адела, — с миссис Парри. Несмотря на то, что раздражителем она была куда меньшим, чем, например, Астон Моффатт или Адела, разум предупреждал, что миссис Парри — это одна из природных сил, подобная времени и пространству, и с ней так просто не справишься. Она хотела эскизы — она их получит. Аделе он мог отказать, но не отказаться от нее; отказаться от миссис Парри ничего не стоило, а вот отказать ей не получалось никак. Раздраженный осознанием своей псевдосилы, он отбросил спасенные эскизы. Под ними оказались какие-то наброски; вот их-то он и разорвал.
Вечер перешел в ночь. Уэнтворт не мог заставить себя лечь спать. Он походил по комнате; немного поработал и еще походил и опять поработал. Решил было, что спать все-таки пора, и тут же вспомнил о своем странном видении и противной гладкой веревке. Он не хотел ее видеть, он сопротивлялся изо всех сил, но точно знал: она здесь. Она могла валяться в каком-нибудь углу комнаты, если бы он не знал, что во сне болтается на ней. Измотанный душевно и физически, он продолжал бродить по комнате, и призрачные неясные образы окружали его со всех сторон. Тело его судорожно подрагивало; глаза болели так, будто он смотрел из петли в бездну позади себя. Наконец он просто застыл в неподвижности.
Тело не двигалось, но глаза продолжали свой бег. Вот они скользнули вниз и обнаружили непрочитанную утреннюю газету. Руки подняли ее и полистали страницы. С середины газетной полосы в глаза метнулся заголовок: «Награждения по случаю дня рождения» и ниже подзаголовок: «Историку присуждают дворянское звание». Сердце Уэнтворта замерло, глаза выкатились, зацепившись за имя, выделенное жирным шрифтом: «Астон Моффатт».
Уэнтворт мог бы впустить в себя радость, по крайней мере, родить намерение порадоваться. Ничего больше — всего лишь попытка порадоваться — и благодать снизошла бы на него. Он был совсем не глуп, он понимал, что это невероятное признание усладит и умилит невинную душу сэра Астона. Это признание не только и не столько его заслуг, сколько заслуг самой истории. Собственно, такое признание ничего особенно не значило, все это были бессмысленные пляски мира, но приносящие удовольствие. Уэнтворт вполне мог бы разделить это удовольствие. Он мог бы порадоваться; по крайней мере, не отказываться от радости. Взамен он мог бы отвергнуть проклятие.