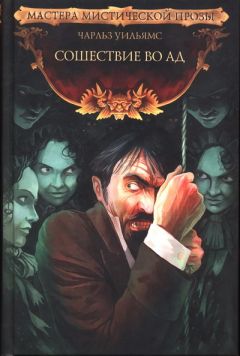— Сюда, — сказала она.
Он вошел; деревянная калитка распахнулась и захлопнулась за ним.
Было совсем темно. Рука скользнула в его руку и легонько ее сжала. Она потянула его вперед и немного вбок. Он спросил: «Где мы?» — но ответа не получил, только подумал, что слышит тихий звук текущей воды, журчанье и плеск. На фоне этого звука не стоило повторять вопрос. Тьма была наполнена тишиной; сердце его перестало гореть, хотя он слышал его биение в такт с журчаньем и плеском воды. Он не помнил, чтобы сердце его билось так громко; почти как если бы он находился внутри своего тела, прислушиваясь к нему там. Оно билось бы еще громче, подумал он, если бы чувства не были убаюканы и притуплены. Наверное, если бы он попал внутрь своего тела, его чувства тоже притупились бы, хотя как бы он туда попал и как выбрался… Если бы захотел выбраться. Зачем? Зачем покидать это убежище, самое надежное из всех? Но он не мог уйти туда полностью, ему мешала рука, ведущая его по какой-то извилистой тропке. Он знал, что тропа эта растянулась на сотни ярдов, или на миллионы труб, или трубочек, или тропок, или веревок, или еще чего-то, свернутых петлями, многими петлями, в его теле; он не хотел бы зацепиться за них ногой, но он не споткнется, потому что рука ведет его.
Он благодарно сжал ее; она ответила. Казалось, теперь они шли вниз, он и его провожатая, хотя он думал, что чувствует запах Аделы, а если и не Аделы, то кого-то очень похожего на Аделу, какой-то росток Аделы, и образ ростка в его сознании разросся в деревья с большими тяжелыми ветвями. А-а, так это было не журчанье, а шелест; он вышел из самого себя в лес, если только он не был собой и лесом одновременно. Мог ли он быть лесом? И при этом бродить по нему? Он долго обдумывал этот вопрос, пока шел, и вдруг обнаружил, что думает не об этом, а о чем-то еще; он скользил пальцами по руке — совсем чуть-чуть, ибо все еще хотел, чтобы его вели. Ему нравилось идти, все дальше, дальше, дальше, от чего-то позади или на самом деле снаружи, снаружи леса, снаружи тела, снаружи двери. Дверь не открылась бы кому угодно; то была его дверь, и хотя он не закрыл ее, она не откроется, потому что дверь знала его желание: навсегда отвязаться от этой противной парочки, беспокоившей его за дверью. Смешно было думать, что они над ним посмеиваются, пока его там нет; шастают под его окнами, пока он далеко, но они никогда не узнают, даже если он их когда-нибудь увидит снова, где, как и почему он был. Здесь ему хорошо и весело; когда-нибудь он даже засмеется, но не сейчас, здесь не стоит смеяться, здесь, под деревьями и листьями, листьями-листами и почками-очами и девами; вот двузначное слово, слово с двумя значениями, девы и Евы. Множество Ев на множество Адамов; одна Ева на одного Адама; одна Ева на каждого, одна Ева на всех. Ева…
Они остановились. В слабом зеленом свете леса, слабой дымке с реки, расползающейся среди деревьев, он видел только смутные очертания женщины подле себя. Он мог снова оказаться в Эдеме, а она вполне могла оказаться Евой; он — единственный мужчина, и все принадлежит только ему. Другие, чьи имена сейчас не стоило и вспоминать, потому что они были просто ходячими животными, — другие были не в счет, они не имели отношения к той великой жизни, которая бродила теперь по этой лужайке. Да и вообще они были не отсюда; они находились вовне, вне этого скрытого райского сада, через потайную калитку которого он вошел, возвращаясь к себе. Он был внутри и в покое. Он сказал вслух:
— Я не вернусь.
— А вам и не надо возвращаться, а если все-таки вернетесь, можете взять это с собой. Хотите? — ответила его спутница.
Он и эти слова понял не сразу. Наконец он сказал:
— Это? Вы имеете в виду все вот это?
Он слегка обеспокоился перспективой возвращения среди теней, что метались вокруг, — суровые, опасные. Поляна, сад, лес, дымка — все они готовы предать и напасть. Но все покрывало знание о том, что женщина, идущая рядом, полностью подвластна ему. Он дохнул на ее руку, и рука окаменела. Она потянула за собой все тело, и женщина медленно опустилась на землю, да так и осталась там, всхлипывая под тяжестью своей окаменелой руки. Он мог бы уйти на год или два, а когда вернулся, возможно, решил бы освободить ее, снова дохнув на эту окаменевшую руку.
Весь здешний воздух мог бы стать его дыханием. Стоит ему глубоко вдохнуть — и снаружи не останется ничего. Он стоял бы в вакууме, и ничто вокруг вообще не могло бы дышать до тех пор, пока он не соизволит выдохнуть. А он ведь может и не захотеть выдыхать, навсегда прекращая всеобщее существование. Допустим, он задержит дыхание на сотню лет или около того, и все звери и дикие твари, и высокий юный сатир, и пухлая юная нимфа, танцевавшие под музыку собственного смеха, немедленно упадут и умрут. Только женщина подле него не умрет, но лишь потому, что она может жить без воздуха, и это хорошо, потому что он хочет, чтобы она жила, а вот если бы ей нужен был воздух, она бы умерла. Он мог бы убить ее ненароком.
— Да, лучше Евы, ближе Евы. Мужчине хорошо быть единственным. Идемте же, дальше, вниз, вниз, — нетерпеливо позвала она.
Вниз — куда? Вниз под воздух, который был или его нет? Но он как раз собирался выдохнуть все, что было правильно. Почему он так долго терпел все, что было неправильно? Все пошло от этого глупого имени «Ева», мешавшего ему осознать, что только он один имеет значение. Ева никогда не говорила ему, что он ее создал, поэтому он не будет создавать ее снова, она останется лишь смятым лоскутком кожи в вакууме, а он будет жить в мире, где никто не будет ездить в Город, потому что не будет никакого Города, если только он… но нет, у него не будет никакого Города. Адела…
Он обнаружил, что затаил дыхание; вдохнул и почему-то лежит, а женщины рядом нет. Тогда он с силой выдохнул, разрешая Аделе существовать.
Теперь, приняв это важное решение, он спал. Луна светила прямо на него. Он больше не висел на веревке. Полная луна таращилась с неба; но луны больше не будет, останется только дыра в небе: вниз, вниз! Он почувствовал руки, скользящие по нему, это лунный свет превратился в руки, когда коснулся его, в лунные руки, прохладные и волнующие. Руки вызывали у него наслаждение; он возьмет их в свой мир, если вернется. Луна всегда будет принадлежать ему, хотя весь лунный свет уже излился, и в небе зияла темная дыра. Поначалу это немного обеспокоило, ведь если какие-то вещи могут исчезать, как вот луна, можно ли быть уверенным, что не исчезнет и его Адела? Можно. Потому что он бог и когда-нибудь создаст другую луну. Он сразу об этом забыл, всецело отдавшись рукам, ласкавшим его. Он впал в забытье; он умер для всего, кроме себя; он пробудился в себе.