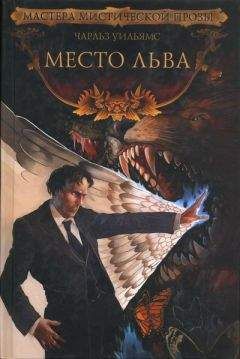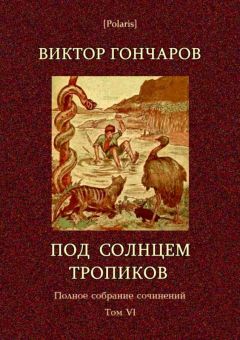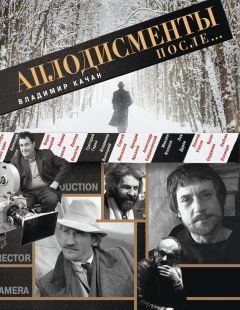В противоположном от занавесей конце комнаты стояло несколько удобных кресел, и к ним с некоторой церемонностью проводили посетителей. Всем, кроме Консидайна, предложили сигары и сигареты. Хозяин подошел к занавесям и раздвинул их. Открылся дальний конец комнаты, и там на небольшом возвышении сидели несколько человек с музыкальными инструментами. Зазвучала музыка.
Оба Трэверса любили музыку; для сэра Бернарда это было, пожалуй, единственное предпочтение среди множества форм досуга. Он несомненно мог считать себя ценителем.
Филипп просто любил музыку. Он знал, что ему нравится, и смиренно осознавал, что не слишком в этом разбирается. Он приготовился слушать, и первые несколько минут пытался узнать музыкальные произведения. Казалось, он уже слышал их прежде, но не мог понять где. То, что последовало далее, он точно не слышал никогда. Как он полагал, это была «современная музыка», порой в ней присутствовало нечто похожее на какофонию. Он начал терять нить музыкальной темы и мысли его сами собой переключились на Розамунду. В этом не было ничего удивительного: он часто думал о Розамунде, под музыку или без нее. Но сейчас он думал о ней в согласии с музыкой. Волна звуков пронизывала его, вызывая в сознании зримый образ Розамунды и ее волнующие изысканные линии. Скрипки пели все быстрее, и в этом чудесном видении все отчетливее проступала шея любимой, стал виден подбородок, скрипки замедлили темп и вздохнули, руки Розамунды вспорхнули над пленительной линией груди, одновременно и призывая и отталкивая. Музыка, создавшая в воображении Филиппа образ любимой, в то же время отдалила их друг от друга. Казалось, вот она, рядом, протянула к нему руки, но сила звуков не давала ответить на призыв. Филипп почувствовал, как растет его сила воображения. Яснее чем когда-либо он увидел совершенное обнаженное тело, воплощенную физическую красоту. Он готов был привлечь ее к себе, но мрачно и глубоко, как никогда прежде, музыка, повелевавшая этой красотой, заставила Филиппа внимать ей одной. Кровь его бурлила, грудь тяжело вздымалась в нарастающем упоении любовью, но пробудившая ее гармония требовала подчинения себе. Он чувствовал, что отдаляется от Розамунды даже с большей страстью, чем приближался к ней. Страсть его достигла одной из вершин и принесла ощущение не то легкого поцелуя, не то неуверенной ласки, предваряющей расставание. Во всяком случае, не последовало никакого сладостного завершения. Внутри Филиппа по-прежнему били открытые фонтаны силы, но теперь музыка помогала держать их в подчинении другим силам, идущим из самой глубины его существа. Ток и противоток существовали одновременно, только непонятно, к какой цели устремлялся противоток. Филиппу казалось, что он сейчас закричит. В памяти всплыл голос Консидайна: «Прошло двести лет с тех пор, как я родился, и, как видите, естественная смерть в ближайшее время мне не грозит». Теперь Филипп признал, что это возможно. Внутренняя сила, вдруг обнаружившаяся в нем, спокойно могла пронести его через пару сотен лет, время было только мерой, но не пределом, условием, но не властью. «Питайтесь, питайтесь и живите», — услышал он, и тогда голос стал музыкой, и она начала стихать, но он даже на расстоянии ощущал ее мощь. Потом она стала ближе и тише, и наконец Филипп обнаружил себя дрожащим и взволнованным в кресле у камина, а звук скрипок в зале еще некоторое время повисел в воздухе и замер. Филипп огляделся, встретил взгляд Роджера и понял, что тот тоже пережил нечто необычное.
Роджер никогда особенно не любил музыку, но не стал отказываться от предложения, сделанного в такой форме, которая и не предполагала отказа. Может быть, сэр Бернард и смог бы найти основания для отказа, жизненный опыт помог бы, но ни ему, ни Филиппу даже пытаться не стоило. Вот он и не сопротивлялся. Наоборот, подумал он, под музыку можно спокойно обдумать невероятные речи хозяина. Пока сказанное Консидайном в голове не укладывалось. И что, интересно, тот имел в виду, когда говорил, будто все великие образцы искусства содержат одновременно и смерть, и новую жизнь? Роджер уселся поудобнее, без интереса взглянул на музыкантов поодаль и стал подыскивать подходящую строфу для начала размышлений. Это должна быть хорошая строфа… Он выбрал: «Отцу в ответ сыновнее сказало Божество».[24] Он понял, что заиграла музыка. Отлично, поехали. Простой анализ, союз противоположностей, так часто существующий в поэзии, был достаточно ясен. Противопоставление латинского «сыновний» и английского «Божество» и идей, выраженных этими словами — сыновний, подразумевающий подчинение и послушание, Божество — власть, завершенность. Что-то подобное нетрудно проделать и для «ответа» и для «сказало». Но вот смерть… музыка мешала ему, к черту музыку! Как-то странно слова стали заодно с музыкой, а не с его мыслями. Он думал… о чем же он думал? — а, об осторожном обращении… с чем? Да, со словами, с ассоциациями: «сыновнее»— взлет, и скрипки резко заплакали — «Божество». «Сыновнее» — он был сыном чего-то, сыновнее — подавление себя в присутствии чего-то, наверное, божества. Божество было победным звуком, проносящимся сквозь его сознание, сыновнее — мягкостью гласных и губных звуков, слово, которое было им, так легко скользящим сквозь мощь всей строфы, мощь, взорвавшуюся в согласных «Божества». Сыновнее — значит умереть, подчиниться музыке и пребывать в согласии с чем-то, что сказало в ответ. Но это именно он сказал в ответ… ответ, ответ, ответ, но что же сказало? «Сказало, сказало», пели звуки, не произнося «сказало», но давая ответ. Оно — слово, звук, говорили сами по себе, «сказало» было лишь эхом сказанного. «Отцу в ответ сыновнее сказало Божество» — и Роджер Ингрэм остался позади, даже тот Роджер Ингрэм, который любил эту строфу, ибо строфа вынуждала его ответить ей жизнью или смертью, быть ничем, кроме сыновнего божества. Мильтон оказался лишь именем особой формы этой бессмертной энергии, строфа оказалась лишь возможностью познать вечное восхищение, восторгом всего, сочетающегося в этой страстной радости, познанием ее, частью ее. Разум всего лишь отметил великолепие строфы, но когда Роджер перешел в нее, стал ею, разум занял место одного из составляющих элементов. Дальше его вел моральный долг. Для начала надо овладеть этой новой энергией, чтобы управлять и моральным долгом, затем — затем у него будет время отыскать еще более великие силы. «Сила, названная так в знак бедности людского слова»,[25] — даже великие поэты были бедны словами, они черпали силу из великого внешнего источника и превращали ее в слова. Роджер застыл, неосознанно повторяя про себя слова, молча и очень медленно раскрываясь навстречу их смыслу: «бедности людского слова» — «отцу в ответ сыновнее сказало Божество». Запели скрипки и медленно стихли вдали, а он стал медленно возвращаться в себя и тут же встретился взглядом с сочувствующими и понимающими глазами Филиппа.