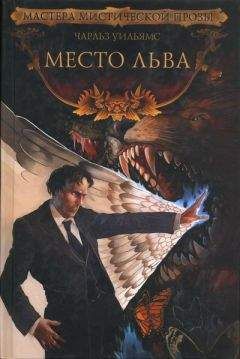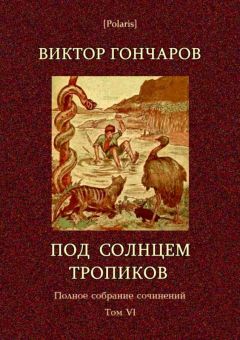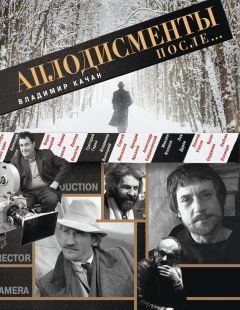Музыка умолкла. Консидайн встал и подошел к гостям.
— Вам понравилось? — спросил он.
Все промолчали. Только сэр Бернард неожиданно встал. Он посмотрел на Консидайна, и на величественном фоне их хозяина его собственная сухощавая фигурка казалась какой-то совсем уж незначительной. Однако в голосе его, когда он заговорил, звучали победные нотки.
— Прекрасная музыка! Но ее чары на меня не подействовали.
— И вы этим гордитесь? — скептически спросил Консидайн.
Сэр Бернард пожал плечами.
— Музыка должна быть музыкой, — сказал он. — Я люблю слушать музыку как джентльмен. Что это было?
— Пьеса написана одним из моих друзей, — сказал Консидайн. — Он преодолел все, кроме музыки, в ней он растратил силы и умер. Мы питаемся плодами его трудов, чтобы сделать больше, чем он.
— Но… — начал Роджер, заинтригованный его словами, — вы хотите сказать, что сочинять музыку — напрасная трата времени?
— А разве нет? — спросил тот. — Если вы хотите большего, чем звук, это напрасная трата сил, так же напрасно тратить силы на возлюбленную, если их можно потратить на что-то большее.
— Но это смерть для всего! — воскликнул Роджер.
— А если даже и так? — спросил Консидайн. — Хотя это, конечно, не так. Избыток сил дается человеку не для того, чтобы он растратил его на решение бытовых проблем. Искры этого огня больше, чем все ваши величественные погребальные костры. А когда сама смерть станет лишь страстью восторга, мы будем сочинять музыку, которой вам просто не вынести, и станем отцами детей, которые ее услышат. Прислушайтесь к пророчеству.
Он кивнул одному из тех, кто прислуживал им за столом. Молодой человек задернул занавес и вышел из комнаты. Консидайн оставил гостей и подошел к маленькому столику возле занавеса. Единственный свет в комнате давал высокий торшер рядом с ним, так что сэр Бернард и другие оставались в тени.
Роджер посмотрел на африканца, сидящего рядом и погруженного, казалось, в сонное оцепенение, потом перевел взгляд на Консидайна. Обычный джентльмен в обычном смокинге… но чернота одежды и бабочки, белизна манишки и манжет сливались в некий торжественный символ. На фоне величественных сапфировых занавесей Роджер видел фигуру в облачении жреца, неподвижную, внимательную, наделенную силой давать или отказывать. Руки Консидайна были расслаблены, голова немного откинута назад, взгляд отсутствующий, как будто он медитировал, а за ним разливалась лазурь, словно плащ, который слуга только что снял и все еще держал развернутым, перед тем как сложить. К этому человеку оказывались неприменимы никакие определения — он был и современен и мифологичен одновременно, но не только, не только… В этой фигуре заключалось нечто большее. Это стоял Человек, осознающий себя и свои силы, человек могучий и победоносный, отважный и невозмутимый, вершитель и пророк. Время и пространство стали его владениями, уже неразделимые, но сплетенные в едином видении, оттеняя своим фоном это живое господство. «Сама смерть лишь страсть восторга» — сама смерть вполне могла бы улечься у этих ног в черных блестящих туфлях, по мановению рук, выглядывающих из жестких сияющих манжет священника. Как для Филиппа были важны платья Розамунды, так всегда и везде боги, оказываясь среди людей, превращали обычные повседневные одежды в священные одеяния.
На ум Роджеру приходили попеременно то фразы из недавнего разговора, то строки воззвания Верховного Исполнителя — «мгновения восторженного вдохновения»: здесь и сейчас было как раз такое мгновение, здесь и сейчас вдохновение стало зримым и конкретным, подавляя своей божественностью.
Открылась дверь. Консидайн повернул голову. Его помощник отступил в сторону и ясным низким голосом представил:
— Полковник Моттре и герр Нильсен.
Сразу вслед за тем в комнату вошли два человека. Первый был высок, худ, с резко очерченным лицом, немного похож на Роджера, но с более злыми и алчными глазами, чем могли бы стать у Роджера, если бы у него отняли всю привлекательность, обязанную любви к Изабелле и служению поэзии. Он был похож на военного, но военного честолюбивого и не уверенного в своем будущем. В его поклоне Консидайну можно было усмотреть не просто приветствие подчиненного старшему по званию, его глаза опустились и поднялись не сразу. За ним следовал совсем другой человек — крепкого телосложения, загорелый и обветренный, довольно молодой или казавшийся молодым, хотя в новом духовном воздухе, которым они дышали, стало понятно, что молодость и возраст — понятия весьма относительные. Он отвесил гораздо более глубокий поклон, чем Моттре, и, войдя в комнату, остановился, тогда как второй прошел вперед.
— Мой дорогой Моттре, — сказал Консидайн не двигаясь, но улыбаясь и протягивая руку.
Полковник Моттре пожал руку Консидайну и вопросительно взглянул на посетителей.
— Эти джентльмены обедали со мной, — пояснил Консидайн. — Я бы хотел, чтобы они немного задержались. Мы поговорим о вашем деле позже, Моттре. Пусть герр Нильсен первым изложит цель своего визита.
Моттре отступил в сторону, а Нильсен вышел вперед и остановился в двух-трех шагах от хозяина дома.
Консидайн протянул руку, и гость склонился над ней, одновременно чуть согнув колени, как будто в присутствии королевской или святейшей особы. Но он опять выпрямился и взглянул на своего сюзерена с почти таким же царственным видом, как у самого Консидайна. Сказать, что душа этого человека жила в его глазах, было бы не преувеличением, а всего лишь определением. В них горела решимость, и Консидайн ответным взглядом эту решимость одобрил.
— Зачем вы пришли ко мне? — мягко спросил он, словно следуя определенному ритуалу.
— Я пришел просить разрешения, — сказал тот.
— Оно в вас самом, — ответил Консидайн. — Я вас слышу. Так и должно быть. Вы дитя Таинств?
— С тех пор, как вы явили их мне, — сказал Нильсен.
— Это было пятьдесят лет назад, — ответил Консидайн.
Гости, наблюдавшие эту сцену, в который раз за вечер напряглись, когда услышали спокойный голос, который так же ровно ответил:
— С тех пор я им следовал.
— Расскажите, — коротко повелел Консидайн.
После недолгого молчания гость заговорил:
— Я пережил любовь и преобразил ее. Когда я был молод, то обнаружил, что чувственные желания мужчины можно превратить в силу воображения, и тогда любая сторона физической жизни становится источником силы. Я нашел способ преобразовать энергию мужского начала в жизненную энергию. Я — один из повелителей любви. Но и ненависть способна давать силу. Я научился переплавлять силу любви и силу ненависти в жизненную силу не только тела, но и души. Теперь мне больше не нужны ни любовь, ни ненависть.