Она нагнулась, светя прямо в треугольные слепые морды, и те опустились. Тека хихикнула.
— Тут еще смешной цвет. Когда Кос меня валял, задирал юбку, сам штаны спустит и рычит. Пугает. А потома говорит, ты, Тека, красавица. Врет ведь.
— Нет, не врет, Тека.
Но та отмахнулась:
— Да знаю сама. Потому и встанет в узор. То славное вранье, он и сам в него верит. Пойдем, что ли?
Они вместе оглянулись на Ахатту, что стояла, мерно качаясь. Умелица плечом отодвинула княгиню и подошла к женщине, повышая голос:
— И ты умеешь, сестра. Вот тута твой цвет ляжет, алый-алый, с зеленой каймой. Узкой, с острым крайчиком.
— Нет, — прошелестела Ахатта, — нет. Он умер, умер. Я виновата, я убила его, ненави…
— А я говорю, не так! Остался он, цвет-то. Да ты сон смотрела сама, вспомни!
У Хаидэ пересохло во рту. Вараки, кивая, подползали ближе, окружая Ахатту.
— Сон?
— Мне баяла, шесть Ахатт, один ковер. А вокруг степь и птицы. Помнишь ли?
— Шесть…
Хаидэ вздрогнула. Шесть. Лепестки злого дурмана, полного темного яда. Шестерка жрецов в тайной пещере. Ладони, сомкнутые для усиления зла.
Ахатта открыла глаза.
— Шесть. Юбки цветные. Мы танцевали. Смеялись.
Тека закивала, обходя и подталкивая подругу вперед. Та шагнула и, оглядываясь, медленно пошла, бережно ступая между мертвыми телами, ползающими тварями и кляксами черного мута.
Яркая степь, май в разгаре, на северных склонах ветер треплет венцы алых цветов, таких нежных — и как не обрываются шесть лепестков, — три вытянуты вверх, а три раскинуты в стороны. Стебли тонкие, два острых листа, как девичьи руки. И — целые поля их, кинутых яркими платками поверх радостной зелени молодой травы, такой зеленой, что кажется — поет. Поет, как изгнанник Абит, бродяга певец, прозванный слепыми людьми Убогом. Поет, умея в каждом найти хорошее. И называя хорошее вслух. Добрая, поет он, кивая Теке, нежная — говорит Ахатте, светлая — обращается к Хаидэ.
Это все я, думает Ахатта, неся перед глазами по сумраку багровой пещеры шесть стройных смеющихся фигур, с одинаковыми лицами, пылающими ярким румянцем. Это я? Ненавидящая себя, измученная, вечно кающаяся и снова совершающая ошибки Ахатта. И вдруг: Ахатта — нежность, Ахатта — смелость, Ахатта — преданность, Ахатта — любовь, Ахатта — жалость. Ахатта — счастье…
— Да, — шепотом говорит она.
И Хаидэ сбоку видит улыбку на голубоватом лице с высокими скулами.
Тека идет впереди, бормоча и улыбаясь своему новому ковру. Оглядывается и кивает сестре Ахатте. Та ступает ровно, тоже с улыбкой, бережно прижимает к себе Мелика. И не забывает взглядом держать Хаидэ, тоже оглядываясь с нежной заботой. А княгиня, неся сына Теренция, идет, шевеля губами, рассказывая Нубе о ярких рыбах, прося, чтоб не уезжал, не надо ей веселых стеклянных рыб, ничего не надо ей без него.
— Не уедешь, — вслух говорит она, уже проходя длинным коридором, переступая через мертвого молодого тойра, у которого половину лица сожрала черная гниль.
И продолжает говорить с ним, обходя ямы, полные черной жижи, отводя рукой слепые черные головы, что лезут оттуда, качаясь и тыкаясь идущим в грудь. Отбрасывает гнилушку, когда в лицо начинает литься яркий закатный свет и слышится шум ветра, протекающего в пустотах закраин.
Щурясь, выходит на каменную площадку, и Тека с Ахатой становятся рядом с ней, перед обращенными к ним перепуганными лицами мужчин и женщин.
— Кос! Ах ты, Косище мой! — Тека бросается вперед, путаясь в подоле, почти роняет ревущего сына на грудь подбежавшего мужа. И ревет, как и мальчик, суровым басом, кривя лицо, дрожащей рукой размазывая слезы по круглым щекам.
Нартуз, подбегая следом, быстро осматривает женщин, уважительно цокает, кивая на подолы, вымазанные черной слизью. И, подталкивая княгиню к группке женщин, отрывисто приказывает парням:
— Теперь выход завалить. И чтоб без дыр, ага?
— Абит! — кричит Ахатта, оглядывая столпившихся мужчин с камнями в руках, — где он? Где Пень?
Раскидывая руки, Нартуз теснит ее дальше от выхода. Сопя, хмуро говорит:
— Ты прости, высокая. Нет его. Там остался, где главная ямища.
Ахатта, упершись, толкает в руки Нартуза сына. И разворачиваясь, бежит обратно, мелькая синим подолом в черных потеках слизи.
— Куда? — страдальчески орет Нарт, неловко прижимая к себе Мелика, — куда, дура! Да утоп, я видел сам. Эх! Пропадешь ведь!
Платье в последний раз вспыхивает посреди черной узкой расщелины и пропадает внутри. Мужчины, держа в руках камни, вопросительно смотрят на своего старшего. Хаидэ, кусая губы, лихорадочно думает, не зная, как быть.
— Ну… — тяжело говорит тойр, и нещадно косматит бороду свободной рукой, — ну… что делать-то? Ведь ночь идет, а ну полезут оттуда? Бабы тут. И дети.
— Тека, — зовет Хаидэ, и когда умелица подбегает, отдает ей сына, — ты говорила, наверху, на горе, там дырка? Прямо в медовую пещеру?
— Есть там. Да она мала совсем. Разве ногу протиснуть, а пролезть никак.
Тека с жалостью смотрит то на княгиню, то на парней, которые по знаку Нартуза уже заваливают последнюю дыру.
— Я найду? Найду дырку?
— Что?
Кос, ставя на землю сына, хватает княгиню за руку.
— Давай. Я найду.
И вдвоем они бегут к узкой тропке, что прыгает с уступа на уступ, прячась в зарослях колючих кустов.
— Скорее, Кос, скорее! Пока солнце еще. Пока не ночь…
Умелица Тека, пригорюнившись, и немного ревниво смотрит, как ее муж подсаживает княгиню, упираясь широкими лапами в круглую задницу, обтянутую старыми штанами. Ну что сделаешь, думает, внезапно сердясь и с облегчением понимая, тут, на воздухе, и посердиться можно, что с ним сделаешь, с чертом, опять нашел, как за бабий зад подержаться, не за Ахатту, так за сестру ее. Тьфу, уж пусть бы вернулся живой…
Хаидэ прыгала, оскальзываясь и подворачивая ноги, цеплялась за свисающие ветки, подтягивалась, из-под ног сыпались мелкие камушки. Позади Кос, пыхтя, толкал ее вверх, сам взлетая следом и обгоняя, подавал широкую ладонь.
А солнце, уже полностью покраснев, плавно сползало вниз, в алые полосы реденьких облаков, меняло очертания, из круглого превращаясь в сплюснутый огромный блин. Ветер проснувшись к закату, бросался на них мягкими и сильными волнами, лепил в лицо княгини пряди волос, задирал бороду Коса ко рту.
Продравшись через кустарнички, растущие частоколом вокруг макушки горы, Кос выскочил на плоскую площадку, усеянную трещинами и черными норами. Нагнулся и медленно пошел к середине, принюхиваясь к каждой подозрительной дырке. Наконец, около одной, что ничем не отличалась от десятка таких же, выпрямился и ткнул вниз пальцем.
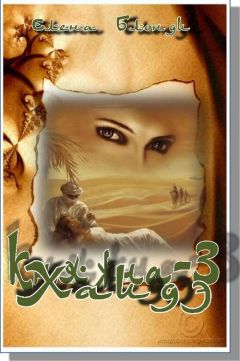
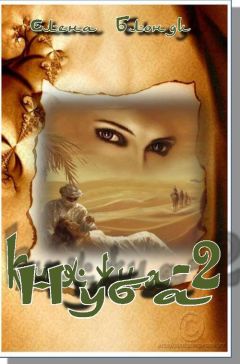

![Фабрис Колен - КОЛЕН Ф. По вашему желанию. Возмездие[]](https://cdn.my-library.info/books/75333/75333.jpg)

