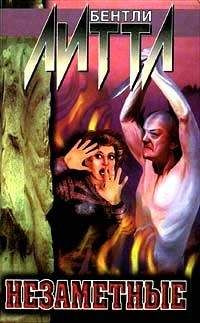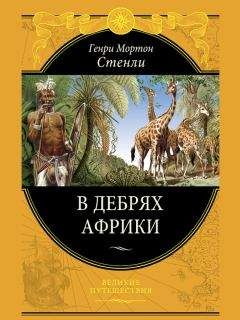Я снова посмотрел на сложенный листок из блокнота с моим именем.
Может быть, она должна была мне сказать, что собирается уйти. Но мы действительно мало разговаривали последнее время, и в этом контексте записка вполне имела смысл.
Я взял листок и развернул его.
Дорогой Боб!
Это самые трудные слова, которые мне приходилось в жизни писать.
А не хотела, чтобы так вышло, и я знаю, что это неправильно, но я не могла бы сказать этого тебе в лицо. Я не могла бы через это пройти.
Я знаю, что ты думаешь. Я знаю, что ты чувствуешь. Я знаю, что ты сердишься, и ты имеешь полнее право. Но у нас уже ничего не получится. Я это вертела так и этак, думая, не могли бы мы что-нибудь сделать, или нам расстаться на время вроде пробного развода, но я решила, что лучше будет сразу отрезать. Сначала это будет тяжело (по крайней мере для меня), но я думаю, что в конечном счете это оптимальное решение.
А люблю тебя. Ты это знаешь. Но иногда одной любви мало. Чтобы были настоящие отношения, должно быть доверие и готовность делиться. У нас их нет. Может быть, никогда и не было – не знаю. Хотя, наверное, когда-то были.
Я не хочу никого винить. Это не твоя вина, что так вышло. И не моя. Это наша общая вина. Но я знаю нас обоих. Я знаю себя, знаю тебя, и знаю, что если мы даже скажем, что попробуем все уладить, ничего не выйдет. Лучше проститься сейчас, пока не стало совсем плохо.
Боб, я никогда тебя не забуду. Ты всегда будешь частью моей души. Ты первый человек, которого я любила, единственный человек, которого я любила. Я всегда буду тебя помнить.
Я всегдабуду тебя любить.
Прощай.
Под этим была ее подпись. Она подписалась полностью, именем и фамилией, и этот штрих официальности ранил меня больнее всего остального. Сказать, что я чувствовал внутри пустоту – штамп, но так это было. Боль была почти физической, неопределенная боль, не имеющая центра, мечущаяся между головой и сердцем.
«Джейн Рейнольдс».
Я снова посмотрел на записку у себя в руке. Когда я перечитал ее снова, меня задел уже не только излишний формализм подписи. Все письмо было сухим и жестким. Слова и чувства были все на месте, но казались они знакомыми и слишком уж готовыми. Я их читал до того в ста романах, слышал и видел в ста фильмах.
Если она меня так любит, почему нет слез? Интересно. Почему не смазана ни одна буква, почему чернила не потекли?
Я выглянул из кухни обратно в гостиную. Кто-то же помог ей вытащить мебель: диван, стол. Кто? Какой-то мужчина? С которым она встречается? С которым она трахается?
Я тяжело сел на стул. Нет. Я знал, что это не тот случай. Она ни с кем не встречается. Она даже не была бы способна от меня такое скрыть. И даже не пыталась бы. О такомона бы мне сказала. Это она бы со мной обсудила.
Наверное, отец помог ей перебраться. Я побрел из кухни в спальню через гостиную. Здесь утрат было меньше, но они были более личными, и потому было больнее. Мебель вся осталась. Кровать была на месте, и туалетный столик тоже, но покрывала с кровати и кружевной салфетки со столика не было. В шкафу остались только мои вещи. Фотографии с подзеркальника тоже исчезли.
Я сел на кровать. Внутри у меня было как в квартире – физически ничего не изменилось, но я был выпотрошен, опустошен, лишен души, будто сердце убрали. Я сидел, а в комнате темнело, день переходил в сумерки, сумерки в вечер.
Я состряпал себе ужин – макароны с сыром, посмотрел новости, «Вечернее шоу» и все передачи, которые обычно смотрел. Я смотрел и в то же время не смотрел, ожидая звонка от Джейн и не ожидая его. Как будто моя личность расщепилась на несколько, и каждая думала о своем, а я осознавал одновременно их все, но в результате сидел в оцепенении на кровати и не шевелился, пока на начался поздний выпуск новостей в одиннадцать.
Странно было входить в темную пустую спальню, странно было не слышать Джейн в душе, и при выключенном телевизоре я вдруг ощутил, как тихо в доме. Откуда-то с улицы, приглушенно и неразличимо, доносились звуки студенческой вечеринки. Там, за дверью, жизнь шла, как шла.
Я разделся, но не бросил вещи на пол, как всегда, а решил положить их в корзину, как всегда настаивала Джейн. Я отнес штаны и рубашку в ванную, открыл пластиковую крышку корзины для грязного белья и собирался бросить туда вещи, когда заглянул внутрь.
На дне корзины рядом с парой моих носков лежали трусы Джейн.
Белые, хлопковые.
Я уронил вещи на пол. Я тяжело сглотнул. Вдруг при взгляде на свернутое белье Джейн мне захотелось заплакать. Я вспомнил, как впервые ее увидел. Она надела на занятия белые трусы и джинсы с прорехой в паху. Я сидел напротив нее в библиотеке и видел, как выглядывает белое из дыры в синем, и ничего в жизни меня никогда так не возбуждало.
С мокрыми глазами я наклонился и достал трусы из корзины. Осторожно, будто они могли разбиться, я медленно их развернул. Они были влажноватыми на ощупь, а когда я поднес их к лицу, они едва слышно пахли ею.
– Джейн, – шепнул я, и мне сладко было произносить ее имя. Я повторил: – Джейн. Джейн...
Джейн не было уже три недели. Я сел на стул и посмотрел на календарь на стене слева от себя. Там было пятнадцать красных крестов, зачеркнувших рабочие дни месяца.
Как каждое утро, я перечеркнул еще один день – сегодняшний. Глаза мои тянуло к первому кресту – третье сентября. С тех пор, как Джейн ушла, от нее ничего не было. Она не заглянула посмотреть, как я тут, она не послала мне письма, что у нее все нормально. Я ожидал, что она проявится – если не по сентиментальным причинам, то хотя бы по практическим. Я думал, что нужно будет обсудить какие-то материальные вещи – что-нибудь, что она забыла и просит меня ей прислать, почту, которую ей переправить – но она наглухо обрезала все контакты.
Я волновался за нее, и не раз было думал съездить в детский сад, где она работала или даже позвонить ее родителям – просто проверить, что у нее все о'кей, но так этого и не сделал. Наверное, боялся.
Хотя по резкому уменьшению потока почты я мог понять, что она сообщила на почту о перемене адреса, иногда на ее имя все же приходили счета, письма или реклама, и я это для нее сохранял.
На всякий случай.
После работы я заехал за молоком и хлебом, но в конце концов настолько махнул на все рукой, что купил полгаллона шоколадного мороженого и пакет орехов. Во все кассы была очередь, так что я выбрал из них ту, где было народу поменьше. Кассирша была молода и хороша, стройная брюнетка, и она мило болтала с человеком впереди меня, быстро пропуская его покупки через сканер. Я смотрел на них обоих с завистью. Хотел бы я иметь эту способность завязать разговор с незнакомым человеком, поговорить о погоде или о текущих событиях или вообще о чем угодно, о чем люди говорят, но даже в воображении у меня такого не выходило. Я просто не мог придумать, чего сказать.