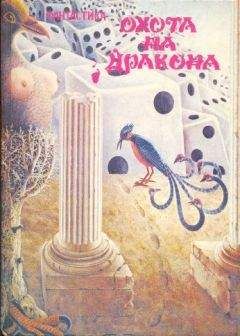— Чего же вы добились? — воскликнул Семен. — Чего? Сколько лет после всех ваших войн прошло, а мы страну досыта не накормили? Сколько миллионов людей за это самое счастье всенародное погибло, а нас как погоняли болтуны, так погоняют и нынче. Сколько вокруг счастья этого кривды и лжи наворочено, а мы истины боимся! Весь мир в штиблетах щеголяет на резиновом ходу, а мы по-прежнему в лаптях шлендраем. Как пятьсот лет назад мы лишь пеньку, мед да воск продавали, так и по сей день лесом, газом да нефтью живем. Этого вы своими смертями добивались, да? За это отцы и деды наши в окопах гнили, на фронтах кровь проливали да вшей в лагерях кормили?
— А ты как хотел? — глухим голосом проговорил призрак комиссара. — Чтобы в новый мир без ошибочек, без просчетов, без сучка и задоринки, без дерьма и грязи, ать-два, легли, проснулись — и мы уже в светлом будущем? Шалишь, брат… Контру одолеть трудно, вражью силу труднее побить, но нет страшнее зверя, сидящего в душе человеческой. С ним-то нам и надо было бороться. Ты помнишь слова «мы наш, мы новый мир построим»… Ведь мир — это и есть человек, микрокосм! Вот, что нам строить надо было!
— Строить-то строили, — буркнул Семен. — А что выстроили? Беломор, ГУЛАГ и БАМ. Эх вы… «борцы за светлое будущее всего человечества…» — и с бессильной горечью он махнул рукой.
— Нет, — спустя некоторое время произнес комиссар равнодушно-отстраненным голосом. — Не наш он, Саня… Не наш…
— Наш, — уверенно возразил ему секретарь, не сводя глаз с Семена. — Не видишь ты, браток, его глаз. А я вижу. В них праведная и горючая слеза стоит. Зол он, ох как зол от того, что приходится ему оплакивать и себя, и родных своих, и близких, а их у него — вся страна… Да, обозлен он, разуверен, и душой ожесточен, донельзя. Но пока на свете существуют такие, как он, — призрак взглянул на сержанта, и от взгляда его по телу юноши пробежала дрожь, а сердце гулко забилось, — пока есть люди, которым честь дороже куска хлеба, а истина ближе рубахи, которые любят людей больше себя, а землю родную — больше жизни — не сгинет Русская Земля. Слышь, ты, комиссар? Не сгинет! Ими она живет, ими держится! Ими!.. Так что… отдай ему, слышь? Отдай.
Наступила пауза, во время которой еще слышнее стало гудение пламени за окнами и шорох нечисти по углам.
— Отдам… — чуть слышно обронил Лачугин. — Отдаю не на сегодня, не на сейчас, отдаю на всю жизнь, на правую битву, на верность народу, на спасение душ людских, на борьбу со злобной силой даю тебе… — в голосе комиссара зазвенел металл, и в руках его появилось нечто, сверкающее нестерпимым блеском, сияющая подобно солнцу полоса, легкая как радужный свет, массивная, как слиток крепчайшего металла. — Отдаю тебе ключ-кладезь на ратный подвиг, на жизнь и на смерть, на веки вечные — бери!
Только теперь Семен увидел, что в руках комиссара длинный кирасирский палаш в ладонь шириной. Он конечно же был наслышан об этом могучем, легендарном оружии, с которым красноармейские части в этих местах во времена оны творили чудеса, опрокидывая и наголову разбивая белогвардейские эскадроны, без единого выстрела занимая города. Рассказывали даже, как сам Махно в период своей наибольшей силы обмочил штаны, едва заметив в степи блеск этого палаша, и живо скомандовал отступление. По документам, взяли Лачугина, предательски заманив в Лепилино, среди бела дня, но ни разыскать его палаша, ни выяснить, где бы он мог быть спрятан так и не удалось, хоть ради этого перепороли всю деревеньку от мала до велика, и весь отряд лачугинский пытали нещадно белогвардейцы и деньги им всем за выдачу предлагали огромные. Все дело было в том, что как доподлинно было известно, клинок этот был заколдован. По слухам, оружие это было выковано в екатерининские времена под руководством и по рецепту самого великого мага Калиостро. Долгое время чернокнижник читал над куском металла заклятия, добавлял в пламя кузнечного горна различные снадобья, ковали его в течение шестнадцати дней шестеро кузнецов, не зная продыху, а закаливали его в свежей крови могучего тура, специально для этой цели отловленного в чащобах Полесья. Это оружие ковалось специально для Потемкина, потом перешло к одному из его родственников, прошло с российскими кавалергардами все кампании, начиная с суворовских времен и ни разу не попадало в чужие руки. Очередному же его владельцу не страшны были ни сабля, ни пуля, он побеждал во всех боях, сражениях и стычках, где бы ни участвовал.
Приняв тяжелый клинок из рук комиссара, Семен прижал его к сердцу, а затем поднес к губам сверкающую, до зеркального блеска отполированную поверхность, отчего по телу его разлилось дурманящее тепло. И почудилось ему, что вместе с поцелуем влилось в него нечто солоновато-железистое. Эта субстанция наполнила его жилы и мышцы невиданной силой, и несказанной, полынной горечью.
С этими-то странными и противоречивыми ощущениями проснулся наш герой. Он продрал глаза, зевнул и затряс головой, отгоняя сонное наваждение. «Приснится же такое! — подумалось ему. — Призрак, шашка, лошадь…»
Он глянул в окно. Подошел, опершись ногами о нары, вскарабкался, ухватился за решетку и подтянулся. Вдали безмятежно мычало коровье стадо, гонимое из городу новым пастухом взамен невесть куда исчезнувшего Ерёмы. Стайка воробьев, звонко чирикая, резвилась в лазурной лужице. Обычное, будничное утро… Но нет, не совсем обычное. Что-то во всем внешнем облике Букашина неуловимо изменилось. То ли улицы стали чуть пошире, то ли дома чуть побольше? Больше того, вдали виднелись контуры далеких, диковинных строений, сверкающих бликами бесчисленных окон, зданий, поразительно знакомых, хотя и нигде ранее им не виданных. Вдали послышался набат. Семен прислушался и поглядел в сторону. Все громче и настойчивее неслись над городом звуки колокола, в старые времена сорванного с церкви и подвешенного на пожарной каланче. Вдали, на горизонте вырастала и растекалась по небу туча исчерна-сизого дыма.
Тревога разлилась по душе молодого человека, и понял он, что попытки списать все с ним происшедшее на гипноз, самовнушение, игру воображения или массовое умопомешательство не увенчались успехом. Непостижимое — продолжалось…
Солнце все еще так и не поднималось. Шут знает, что в те дни стало твориться со своенравным светилом. Светало в округе явно без его участия, во всяком случае, рассветы и закаты исчезли, как по приказу министерства культуры, якобы нашедшего эти представления слишком роскошными для своего чересчур истощенного бюджета. Теперь темное ночное небо попросту неожиданно серело, будто где-то там, за толстым слоем облаков включался обширный, во весь небосклон, но маломощный источник дневного света и принимался гореть горным и безжизненным свечением строго отмеренной мощности. Когда же наставала пора, невидимая рука отключала его на восемь часов — и тогда наступала ночь. Тьма была невыносима, ибо на небе напрочь исчезли луна и звезды. Это обстоятельство усугублялось еще более тем, что в городе совершенно исчез свет. А точнее — вообще любой намек на присутствие в кабелях и проводах электрического тока в исторически обозримый промежуток времени. Исчезла всяческая связь с областью, даже радиостанция гидрометслужбы, отличающаяся повышенной мощностью и диапазоном, не могла пробиться куда бы то ни было за пределы района, в наушниках постоянно слышались треск и шумы, как будто где-то рядом проходил мощный грозовой фронт. Машина с электриками, отправленная исправить обрыв телефонной линии, исчезла, будто сгинула. Нарочные курьеры же вообще отказались покидать территорию города: слухи о нашествии нечистой силы распространялись со скоростью степного пожара.