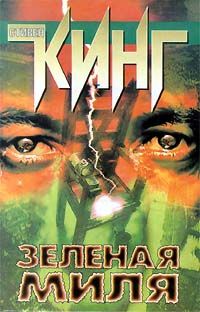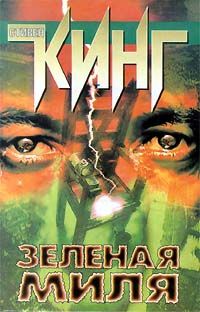Наверное, мне нужно сказать о том, что я понятия не имел, сколь далеко мне придется вернуться, чтобы рассказать вам о Джоне Коффи, и как надолго оставить его в камере, мужчину с такими длинными ногами, что они не просто свешивались с койки, но доставали до пола. Я ведь не хочу, чтобы вы забыли его, не так ли? Мне хочется, чтобы вы видели его, уставившегося в потолок камеры, плачущего молчаливыми слезами или закрывающего лицо руками. Хочется, чтобы вы слышали его вздохи, дрожащие от рыданий, его редкие стоны. Они ничем не напоминали свидетельства агонии и сожаления, что часто доносились до наших ушей в блоке Е, или крики, в которых звучали нотки раскаяния. Как и вечно мокрые глаза Коффи, эти звуки существовали как бы отдельно от той душевной боли, с которой нам приходилось иметь дело. В определенном смысле (я понимаю, какой галиматьей все это может показаться, разумеется, понимаю, но нет смысла браться за столь большой труд, а рассказ мой получается долгим, если не высказать то, что велит сердце) складывалось впечатление, будто он жалеет весь мир, и чувство это столь велико, что полностью облегчить душу просто невозможно. Иногда я сидел, говорил с ним, как говорил бы с любым другим (разговоры эти — важнейшая часть нашей работы, кажется, я уже упоминал об этом), и пытался успокоить. Не уверен, что мне это удавалось, но меня радовало уже то, что он страдает. Я чувствовал, что он достоин страдания. Я даже подумывал о том, чтобы позвонить губернатору (или попросить Перси позвонить ему… черт, губернатор приходился родственником ему — не мне) и попросить отсрочить казнь. «Не следует нам так быстро сажать его на электрический стул, — сказал бы я. — Боль его еще слишком велика, она вгрызается в него острыми зубами, лишая покоя. Дайте ему еще девяносто дней, ваше превосходительство, сэр. Пусть он поможет себе тем, в чем мы бессильны».
Вот я и хочу, чтобы вы не забывали про Джона Коффи, пока я познакомлю вас с предысторией случившегося. Джона Коффи, лежащего на койке, Джона Коффи, боящегося темноты, похоже, не без причины. Ибо не в темноте ли дожидались бы его две фигурки со светлыми кудряшками: на этот раз не маленькие девочки, а жаждущие мести гарпии? Джона Коффи, из глаз которого всегда текли слезы, словно кровь из незаживающей раны.
И так, Вождя казнили, а Президент потопал своими ножками в блок С, где присоединился к ста пятидесяти заключенным, получившим пожизненный срок. Для Президента он обернулся двенадцатью годами. Его утопили в тюремной прачечной в 1944 году. Не в прачечной «Холодной горы», поскольку «Холодную гору» закрыли в 1933-м. Я думаю, для заключенных это особого значения не имело: стены есть стены, как они говорят, но вот для Старой Замыкалки решение властей стало смертным приговором, потому что на новое место из кладовой «Холодной горы» электрический стул так и не перенесли.
Что же касается Президента, то кто-то сунул его лицом в чан с концентрированным раствором стирального порошка, и подержал там. Когда надзиратели вытащили труп, от лица уже ничего не осталось. Идентифицировали Президента только по отпечаткам пальцев. Так что, может, смерть на Старой Замыкалке показалась бы ему предпочтительнее… но тогда он не получил бы лишних двенадцати лет, не так ли? Я, правда, сомневаюсь, что он думал о них в последние минуты своей жизни, когда его легкие учились дышать «хекслайтом» или аналогичным моющим средством.
Того, кто это сделал, так и не поймали. К тому времени я уже не работал в пенитенциарной системе, но мне написал об этом Гарри Тервиллигер. «Его убили главным образом потому, что он был белым, — писал Гарри, — но он получил то, что заслуживал. Казнь ему отсрочили на долгое время, но приговор не отменили».
После того как Президент нас покинул, в блоке Е воцарились тишина и покой. Гарри и Дина временно перевели в другие подразделения, а на Зеленой миле остались только я, Зверюга да Перси Уэтмор. Сие означало, что остались я и Зверюга, поскольку Перси держался сам по себе. Этот молодой человек, доложу я вам, умел уклоняться от работы. И очень часто (однако только в отсутствие Перси) другие парни заглядывали к нам поболтать и выпить пивка. Обычно компанию нам составлял и мышонок. Мы его кормили, а он сидел и ел, важный как Соломон, поглядывая на нас черными бусинками глаз.
Так прошло несколько недель, которых не могли омрачить даже непрекращающиеся выходки Перси. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. И в дождливый понедельник в конце июля (я ведь уже упоминал о том, каким дождливым выдалось то лето?) я сидел на койке открытой камеры и ждал Эдуарда Делакруа.
Его появление запомнилось мне надолго. Дверь, ведущая в тюремный двор, распахнулась, в блок Е хлынул дневной свет, послышались звяканье цепей и испуганный голос, произносящий вперемешку английские и французские слова. И тут же все перекрыли крики Зверюги:
— Эй! Прекрати! Ради Бога, Перси, уймись!
Я было задремал на койке, которую предстояло занять Делакруа, но от криков вскочил как ошпаренный, сердце чуть не выскочило у меня из груди. До того как Перси поступил к нам на работу, ничего подобного в блоке Е не случалось. Он принес с собой ненужное напряжение, сопровождавшее его, словно плохой запах.
— Шевелись, гребаный французский педик! — ревел Перси, не обращая внимания на Зверюгу.
Наконец я увидел его. Одной рукой он тащил низкорослого худого мужчину, во второй держал дубинку. Губы его разошлись в злобном оскале, лицо заливала краска. И при этом чувствовалось, что Перси счастлив. Делакруа пытался поспеть за ним, но ножные кандалы не позволяли набрать ход, поэтому, при всех его усилиях, он не успевал за Перси. Я выскочил из камеры в тот момент, когда Делакруа начал валиться на землю. Я удержал его на ногах: так мы и познакомились.
Перси вскинул дубинку, а я одной рукой пытался удержать его. К нам уже спешил Зверюга, потрясенный и возмущенный увиденным. Я, кстати, испытывал те же чувства.
— Не позволяйте ему больше бить меня, m’sieu,[20] — верещал Делакруа. — S’il vous plait, s’il vous plait![21]
— Пустите меня, пустите! — Перси рванулся вперед и начал охаживать плечи Делакруа дубинкой.
Делакруа крича поднял руки, а дубинка гуляла по рукавам его синей робы. В тот вечер я увидел его без нее, всего в синяках. Мне даже стало нехорошо. Конечно, в блок Е он попал не за красивые глаза, суд приговорил его к смерти за убийство, но так у нас с заключенными не обращались, во всяком случае до прихода Перси.
— Хватит! Хватит! — заорал я. — Прекрати! Что ты себе позволяешь?
Я попытался втиснуться между Делакруа и Перси, но толку из этого не вышло. Дубинка Перси продолжала охаживать Делакруа с боков, в обход меня. Рано или поздно это привело бы к тому, что какой- нибудь удар пришелся по мне, а потом началась бы драка. Я бы точно забыл, чей он там родственник, да и Зверюга составил бы мне компанию. И знаете, я даже сожалею о том, что драка не началась. Мы бы крепко отмутузили Перси, и в итоге могло бы не случиться всего того, что произошло потом.