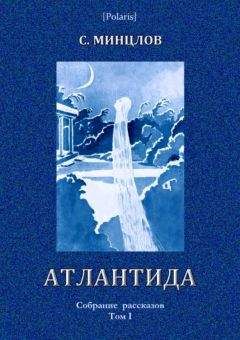Звонка у входа в дом Христиана Ивановича не полагалось: его заменяла чугунная рука, державшая шар, и я ударил им по скобке и прислушался.
Прошло несколько минут и за занесенной снегом дверью зашаркали туфли и стали спускаться по лестнице; в зарешеченное отверстьице блеснул огонек, показался настороженный глаз.
— Кто там? — спросил знакомый голос.
Я назвал себя и дверь открылась.
Передо мной стоял высокий, худощавый человек со свечой, поднятой над головой…
— Однако и занесло же вас… белый верблюд совсем!.. — сказал он, впустив меня и плотней запахивая на тощей груди коричневый халат с зелеными обшлагами.
— Извините, что потревожил вас в такую погоду!
Я отряхнулся и вслед за светившим хозяином поднялся по крутой деревянной лестнице во второй этаж. Приятно обняло теплом, окружили тесно стоявшие и друг на друга наваленные старинные, еще живые друзья уже умерших людей — книги, мебель с тисненой кожей, хрусталь, чуть мерцающий сквозь покров пыли; крохотное свободное местечко занимал на середине пола маленький, резной черный стол; на нем над раскрытой рукописью горела керосиновая лампа с зеленым абажуром.
К столу была прислонена длиннейшая голубая трубка, вся вышитая бисером.
Мы опустились на жесткие кожаные кресла времен рыцарей; Христиан Иванович взял трубку и сделал глубокую затяжку.
— Я думал о вас и вы пришли… — заговорил он, и в серых, острых глазах его почудилось какое-то беспокойство.
— Очень рад, что в эту ночь вы со мной!.. — он слегка пожал мою руку, лежавшую на краю стола, и опять всхрипнул трубкой; сивые волосы на его голове торчали в разные стороны и, казалось, тоже претерпели метель; круглое, как мячик, лицо, давно не видавшее бритвы, заросло перепутанным репейником.
Христиан Иванович был глубоким мистиком, потому слова его меня не удивили.
— А зачем я вам понадобился? — спросил я.
— Сегодня особенная ночь! — ответил он.
— Чем же именно?..
Мой собеседник молча указал узловатым пальцем на развернутую рукопись и передал ее мне.
Глянули крупные, порыжелые буквы; надпись гласила: — «Анно Домини 1428»… Над нею двумя неровными чертами был сделан большой крест. Далее следовали краткие записи о событиях в городе Риге.
Я стал пробегать их, а хозяин то исчезал, то выявлялся из дыма и молча следил за выражением моего лица. Заметки были краткие, но любопытные и касались главным образом вечных распрей города с орденом Меченосцев. Рыцари добивались подчинения себе архиепископа, т. е. полной власти над Ригой; упрямые ратсгеры и горожане добровольно не уступали Ордену решительно ни в чем и наконец произошло неслыханное событие.
В январе месяце названного 1428 года в Домской церкви было назначено собрание для разбора какой-то новой претензии и жалобы Ордена на рижан; храм был переполнен горожанами и рыцарями; заседание происходило особенно бурное; раздраженные стороны осыпали друг друга укорами и дерзостями и вспыльчивый гроссмейстер Ордена Зигфрид фон Спонгейм обнажил меч и в бешенстве кинулся на хладнокровно председательствовавшего ратсгера.
Бюргеры заслонили его и предотвратили кровопролитие в святом месте.
Умный и просвещенный архиепископ Генинг Шарценберг в том же январе созвал «провинциальный» собор и это собрание вынесло ряд важных постановлений, нанесших сильный удар рыцарям.
Среди прибывших на собор Рига увидела епископов Дерптского и Эзельского и празднества и пиры в честь гостей продолжались несколько дней.
В противовес рыцарям, всегда закрепощавшим крестьян, был принят целый ряд мер, облегчавших положение латышей и признававших за ними все права. Сверх того, было постановлено отправить посольство к самому Папе с подробным донесением о насилиях и обидах, чинимых Орденом духовенству.
Посольство выступило в путь в половине февраля месяца и к нему, в видах большей безопасности, примкнули шестнадцать юношей знатнейших фамилий; Рига почуяла веяние Ренессанса и впервые послала свою лучшую молодежь в Италию для завершения образования.
Толпа родных, знакомых и зевак далеко проводила длинный поезд возков, вытянувшийся на замерзшей Двине; настроение у уезжавших было радостное и бодрое, но часть остававшихся на родине хмурились: просочился слух, будто в ночь перед отбытием посольства сторожа слышали, как на башне св. Петра сам по себе зазвучал погребальный колокол; в него звонили только во время шествия осужденных преступников к месту казни.
Еще хуже было другое предзнаменование: при спуске поезда с ратушной площади на Двину, дорогу ему пересек пьяный городской палач, кривой Иеронимус Вурм, несший под мышкой длинный и широкий меч для предстоявшей ему в тот день работы.
Далее в рукописи стояло:
«18 февраля. В соборе идет заупокойная месса, улицы полны взбудораженными горожанами; ночью на взмыленных конях прискакали трое всадников с вестью о гибели посольства; мерно и медленно звонит на башне св. Петра колокол.
19 февраля. Бедственное происшествие выяснилось: близ Лива-озера рыцари под предводительством комтура Госвина фон Ашенберга напали на поезд, ограбили, а частью перебили его и отняли все документы, предназначавшиеся Папе. А шестнадцать человек защищавшейся молодежи были спущены под лед в проруби и утоплены. Господи, прими их души!..»
Под 1438 годом стояло: «Сего числа служили в Домском соборе траурную мессу по погибшим десять лет тому назад членам посольства к Папе. Весь город в черном.
А с того ужасного злодеяния в семнадцатый день февраля каждого года со стороны Ливского озера ночью стала налетать жестокая буря; с воем и визгом бросалась она на стены и башни города и души погибших рвались в ворота и стучали в окна своих домов…»
Я вздрогнул и прервал чтение: в раму окна глухо ударил ком снега; слышно было, как что-то припало к крыше, потом бросилось к трубе, застонало над ее отверстием и, плача, унеслось дальше.
— Что это?.. — невольно спросил я. — Кто-то кинул снежком?
Христиан Иванович молчал и продолжал завешиваться облаками дыма.
Я встал и пробрался к окну. Не было видно ни зги; метель бушевала по-прежнему.
— Сегодня семнадцатое февраля… вот почему я вызвал вас! — проронил мой приятель. — Слышите звон на св. Петре?
— Это воет метель! — ответил я. — Кому охота лезть ночью на такую вышину?
Христиан Иванович напряженно прислушивался. — «Звонит!..» — убежденно подтвердил он.
Я почти припал ухом к стеклу, изукрашенному морозными завитушками: кроме звуков бури, ничего иного не доносилось.
— Звонит… звонит!.. — возбужденно повторил он. — А если вы не слышите, значит, он относится только ко мне!