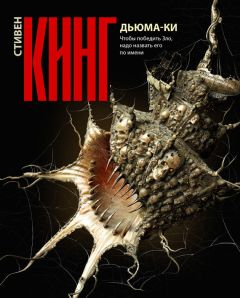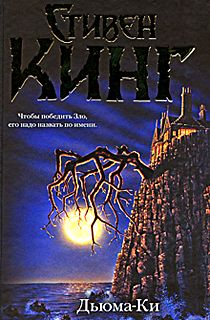– Пожалуйста, только не съезжай с дороги, – простонала Илзе. – Идти мы не сможем. Я слишком слаба, а ты слишком покалечен.
– Не съеду, Моника, – ответил я, но в этот момент она высунулась из окна, чтобы вывалить то, что еще оставалось в желудке, и не думаю, что услышала меня.
Медленно-медленно мы откатывали от того места, где Илзе остановила автомобиль. Я говорил себе: «Поспешишь – людей насмешишь» и «Тише едешь – дальше будешь». Бедро рычало от боли, когда мы переваливались через корни фикуса-душителя. Пару раз я слышал, как ветки морского винограда скребли по борту автомобиля. Сотрудникам «Херца» это вряд ли понравится, но их проблемы в тот момент волновали меня меньше всего.
Мало-помалу становилось светлее, потому что зеленая крыша над дорогой раздавалась в стороны. Меня это вполне устраивало. Уходила красная пелена перед глазами, уходил безумный зуд. Что устраивало еще больше.
– Я вижу тот большой дом за забором, – возвестила Илзе, оглянувшись.
– Тебе получше?
– Может, чуть-чуть, но желудок по-прежнему вибрирует, как «стиралка». – Судя по раздавшемуся звуку, тошнота вновь подкатила к ее горлу. – Господи, лучше бы я этого не говорила. – Илзе высунулась из окошка, ее снова вырывало, она откинулась на спинку сиденья, засмеялась и застонала одновременно. Кудряшки прилипли ко лбу. – Я уделала весь борт твоего автомобиля. Пожалуйста, скажи, что у тебя есть шланг.
– Об этом не волнуйся. Расслабься. Дыши медленно и глубоко.
Она попыталась отдать честь и закрыла глаза.
Старуха в большущей соломенной шляпе исчезла, зато ворота распахнули полностью, будто хозяйка ждала гостей. Или знала, что нам понадобится место для разворота.
Я не стал тратить время на обдумывание, просто задним входом въехал в ворота. Мельком увидел двор, вымощенный синими керамическими плитками, теннисный корт, огромную двухстворчатую дверь с железными кольцами-ручками, а потом поехал домой. Куда мы и прибыли пятью минутами позже. Теперь я все видел так же ясно, как и утром, когда проснулся, может, и яснее. А если не считать легкого зуда, который «гулял» по правой половине моего тела, чувствовал себя прекрасно.
И еще мне очень хотелось рисовать. Я не знал, что именно нарисую, но не сомневался, что узнаю, когда поднимусь в «Розовую малышку» и сяду перед мольбертом с раскрытым на нем альбомом. Совершенно в этом не сомневался.
– Давай я помою твою машину, – предложила Илзе.
– Сейчас тебе нужно полежать. Выглядишь ты полумертвой.
Она вымученно улыбнулась.
– Полу – это не совсем. Помнишь, как говорила мама?
Я кивнул:
– А теперь иди. Борт я помою, – и указал на шланг, свернутый кольцами у северной стены «Розовой громады». – Он подключен, так что достаточно повернуть вентиль.
– Ты в полном порядке?
– Лучше не бывает. Думаю, ты съела больше салата с тунцом, чем я.
Илзе сподобилась еще на одну улыбку.
– Я неравнодушна к собственной готовке. Папуля, ты показал себя настоящим героем, вызволив нас из джунглей. Я бы тебя поцеловала, но пахнет от меня…
Я поцеловал ее. В лоб. Холодный и влажный.
– Немедленно примите горизонтальное положение, мисс Повариха… приказ верховного главнокомандующего.
Она ушла. Я включил воду и принялся мыть борт «малибу». Потратил на это больше времени, чем было необходимо, чтобы дочь наверняка успела заснуть. И она успела. Когда я заглянул в приоткрытую дверь второй спальни, Илзе лежала на боку, спала, как в детстве: одна ладонь под щекой, одно колено подтянуто к груди. Мы думаем, что меняемся, а на самом деле – нет. Так говорит Уайрман.
Может, si, может, нет. Так говорит Фримантл.
Что-то тянуло меня (возможно, это «что-то» сидело во мне с того несчастного случая, но оно точно вернулось со мной из поездки по Дьюма-роуд). Я позволил этому «что-то» тянуть, не было уверенности, что смогу устоять, да не хотелось и пытаться; разбирало любопытство.
Сумочка дочери лежала на журнальном столике в гостиной. Я открыл ее, вытащил бумажник, просмотрел фотографии, которые она в нем держала. Почувствовал себя чуть-чуть негодяем, но только чуть-чуть. «Ты же ничего не крадешь», – убеждал я себя, но, разумеется, есть множество способов воровства, не так ли?
В бумажнике сразу наткнулся на фотографию Карсона Джонса, которую Илзе показывала мне в аэропорту, но она меня не интересовала. В одиночку он меня не интересовал. Я хотел увидеть его с ней. Мне требовалась их общая фотография. И я ее нашел. Похоже, сфотографировались они у придорожного лотка. На фоне корзин с огурцами и кукурузными початками. Оба улыбались, молодые и прекрасные. Обнимали друг друга, и одна ладонь Карсона Джонса, похоже, лежала на обтянутой синими джинсами округлой попке моей дочери. Ах ты, нахальный христианин. Моя правая рука все еще зудела, кожу несильно, но непрестанно кололо горячими иголками. Я почесал руку, почесал сквозь руку, в десятитысячный раз вместо руки попал пальцами на ребра. И эту фотографию Илзе хранила в прозрачном пластиковом конверте. Я вытащил ее, обернулся (нервничал, как взломщик на первом деле) на приоткрытую дверь комнаты, в которой спала дочь, перевернул.
Я люблю тебя, Тыквочка!
Смайлик.
Мог я доверять ухажеру, который называл мою дочь Тыквочкой и подписывался, как Смайлик? Я так не думал. Возможно, относился к нему предвзято, но нет… я так не думал. Тем не менее я нашел то, что искал. Не его одного – их вдвоем. Я повернул фотографию картинкой к себе, закрыл глаза и притворился, будто вожу по кодаковскому изображению правой рукой. Хотя не чувствовал, что это притворство; надеюсь, теперь мне уже не нужно это объяснять.
По прошествии времени (не могу сказать точно, как долго у меня все это заняло) я вернул фотографию в пластиковый конверт, а потом засунул бумажник под салфетки и косметику, примерно на ту же глубину, с которой и достал. Положил сумочку на журнальный столик, зашел в свою спальню за Ребой, воздействующей на злость куклой, и захромал наверх, в «Розовую малышку», культей прижимая куклу к боку. Вроде бы помню, как говорил: «Я собираюсь превратить тебя в Монику Селеш[40]», – когда сажал ее перед окном. Но с тем же успехом мог сказать «в Монику Голдстайн». Когда дело касается памяти, мы все склонны подтасовывать. Евангелие от Уайрмана.
Я отчетливо (даже отчетливее, чем хотелось) помню большую часть того, что произошло на Дьюме, но вот вторая половина именно этого дня вспоминается смутно. Я знаю, что с головой ушел в рисование, а сводящий с ума зуд в несуществующей руке меня совершенно не донимал, пока я работал. И я почти уверен, что красноватая дымка, которая в те дни висела перед глазами, сгущаясь, если я уставал, на какое-то время исчезла полностью.