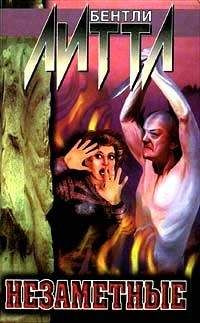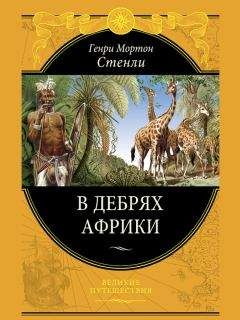– Вы знаете, что я имею в виду.
– В самом деле?
Я поймал его взгляд.
– Вы против меня что-то имеете?
Он улыбнулся этой наглой улыбкой спортсмена-отличника.
– Да, – признал он. – Имею.
– Что?
– Вы мне не нравитесь, Джонс. С самого начала. Вы – воплощение всего, что я презираю.
– Но почему?
– А это важно?
– Для меня – важно.
– Значит, неважно. Займитесь делом, Джонс. Я очень недоволен вашей работой. И мистер Бэнкс – тоже. Недовольны все.
«Ну и хрен тебе на рыло», – хотел я сказать. Но лишь выразил это глазами, повернулся и ушел.
* * *
Я Незаметный, потому что средний. Это казалось самым логичным, самым разумным допущением. Созревший в конце двадцатого века, я был продуктом массмедийного культурного стандарта, мои мысли, вкусы и чувства сформировались и определились теми же влияниями, которым подвергались все люди моего поколения.
Но я в это не верил.
Во-первых, я не был полностью средним. Будь оно так, будь все так последовательно, мое существование было бы понятным и предсказуемым. А в этой теории были зияющие несовпадения. Пусть мои телевизионные вкусы точно соответствовали рейтингу по Нильсену, и в газете передачи шли в том же порядке, что я предпочитал, но зато мой выбор книг был куда как далек от общепринятого.
Но тут опять: хоть мои литературные вкусы отличаются от вкусов публики вообще, они, быть может, в точности средние по группе белых мужчин моего социоэкономического и образовательного уровня.
Насколько же специфична эта штука?
У статистика бы годы ушли на то, чтобы рассортировать эту информацию и найти закономерность.
Я доводил себя до психоза этими бесконечными рассуждениями, пытаясь выяснить, кто я и что я.
Я оглядел свою квартиру и причудливую обстановку, которую мое влияние смогло как-то сделать обыденной. У меня возникла идея, и я пошел в кухню и в ящике со старым хламом раскопал автомобильную карту Лос-Анджелеса. Развернув ее, я нашел Музей искусств графства Лос-Анджелес.
На улице перед моим домом стоял припаркованный автомобиль – «додж-дарт». Я было не обратил на него внимания, но когда он поехал за мной к улице... потом по Колледж-авеню, по хайвею Империал и на фривей, я стал слегка нервничать. Хотя понимал, что это скорее всего ничего не значит. Просто я фильмов насмотрелся. Или от одинокой жизни могла развиться мания преследования. Но я все равно видел, что эта машина от меня не отстает: меняет ряд, когда я меняю ряд, прибавляет скорость, когда я прибавляю, тормозит, когда я торможу. Ни у кого не было никаких причин за мной следить – это вообще смехотворная идея, – но все равно мне было не по себе и чуть страшновато.
В зеркале заднего вида я увидел, как черный четырехдверный пикап втиснулся между мной и «дартом», и я воспользовался этим, чтобы удрать, вдавив педаль газа в пол и резко свернув на ближайший выезд. Под развязкой я подождал, не дергаясь даже тогда, когда загорелся зеленый, но «дарт» больше не появлялся. Я его стряхнул.
Тогда я выехал обратно на фривей в сторону Лос-Анджелеса.
В музее было полно народу, и трудно было найти место, куда поставить машину. Пришлось мне выложить пять баксов на платной стоянке на боковой улочке. Я прошел через парк, уставленный раскрашенными скульптурами вымерших млекопитающих, и вошел в музей, где с меня сняли еще пять баксов за вход.
Внутри было прохладно, темно и тихо. Там были люди, но здание было такое огромное, что их казалось мало и рассыпаны они были широко; и даже самые развязные вели себя тихо в этой подавляющей атмосфере.
Я шел из зала в зал, от крыла к крылу, с этажа на этаж, мимо английской мебели и французского столового серебра, мимо индейских статуй, скользил взглядом по картинам на стенах, выискивая имена больших художников, знаменитостей. Наконец нашел. Ренуара. На картине были люди, обедающие в уличном кафе.
В этой галерее, может быть, и во всем крыле, не было других посетителей, только одинокий охранник в форме стоял у входа. Я отступил в центр зала. Это, я знал, класс. Это культура. Это Искусство с большой буквы.
И, глядя на картину, я постепенно холодел. Я хотел ощутить ее магию, ощутить благоговение и изумление, ощутить то трансцендентное, которое должно ощущаться при соприкосновении с шедеврами искусства, но ощущал лишь легкую приятность.
Я стал смотреть другие картины экспозиции. Передо мной были мировые сокровища, самые утонченные предметы, которые создал человек за всю историю планеты, и все, что я мог в себе вызвать, – наполовину искренний интерес. Мои чувства были заглушены, притуплены самой природой моего существа, тем фактом, что я был полностью и окончательно ординарен.
И экстраординарное не имело надо мной власти.
Это было то, что я предполагал, чего боялся, и пусть это лишь подтвердило мои ожидания, само подтверждение стукнуло, как объявление смертного приговора.
Я снова посмотрел на Ренуара, подошел ближе, стал его рассматривать, изучать, пытаясь заставить себя что-то почувствовать, хоть что-нибудь вообще, изо всех сил пытаясь понять, что люди в этом видят, но это вне меня.
Я повернулся уходить...
...И увидел человека, который смотрел на меня из дверного проема.
Высокий человек с пронзительными глазами, который был в торговых рядах.
Меня окатило волной холода и проняло этим холодом насквозь.
И тут же он исчез за стеной слева от двери. Я бросился к выходу, но там уже и следа его не было.
Только одинокая пара в официальных костюмах шла ко мне от дальнего конца крыла.
У меня возникло искушение спросить охранника, не видел ли он этого человека, но я тут же сообразил, что нет. Он смотрел в зал, в сторону от того места, где человек стоял, и видеть ничего не мог.
Вдруг музей показался мне темнее, холоднее и больше, чем был секунду назад, и, направляясь к выходу через пустые залы, я заметил, что сдерживаю дыхание.
Я боялся.
Я пошел быстрее, желая побежать, но не решаясь, и лишь снаружи, на солнечном свету, в окружении людей я смог дышать нормально.
В понедельник Дэвид ушел. Мне не было сказано, почему, а я не спросил, но стол его был пуст, металлические ящики за его спиной – тоже, и я уже знал, что он больше не работает в «Отомейтед интерфейс». Интересно, уволили его или он сам ушел. Наверное, уволили. Иначе он бы мне сказал.
Или нет.
Что говорят и что хотят сказать – это разные вещи.
Я заметил, что вспоминаю его слова о женщинах, которые он сказал, когда я ему сообщил, что не пытался найти Джейн. Эти слова не давали мне покоя с тех самых пор, толкаясь в подсознании, заставляя меня чувствовать не то чтобы вину, но... ответственность какую-то за то, что она не вернулась. Я минуту подумал, потом встал, закрыл дверь офиса и сел на стол Дэвида, сняв трубку. До сих пор я помнил на память номер того детского сада, и мои пальцы почти автоматически набрали эти семь цифр.