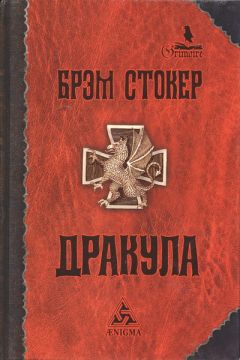революции. Он весьма напоминал при этом тех шестерых вояк из шкафа, хотя и походил в своей рваной одежде на огородное пугало.
Теперь я сидел посреди низенькой хибары, а старик со старухой расположились чуть впереди от меня, один справа, другая слева. Лачуга была завалена прелюбопытным хламом, но также и разными предметами, которые были мне совсем не по душе. В одном углу лежала куча тряпья, кишмя кишевшая паразитами, в другом – куча костей, от которой исходила просто чудовищная вонь. То и дело бросая взгляд на эти кучи, я подмечал среди них сверкающие крысиные глазки. В дополнение к прочим мерзостям в лачуге обнаружился поистине ужасающий предмет – прислоненный к стене справа старый мясницкий топор с железной рукояткой, который был перепачкан кровью. Впрочем, и это не слишком меня занимало. Старики рассказывали так увлекательно, что я все слушал и слушал, пока не наступил вечер и кучи сора не начали отбрасывать вокруг темные тени.
Постепенно мне сделалось не по себе. Почему именно – я не мог понять, но что-то было не так. Тревога – инстинктивное чувство, она несет в себе предупреждение. Зачастую душевные силы стоят на страже умственных, и, когда мы чувствуем голос тревоги, рассудок, пусть, быть может, и неосознанно, принимается за дело.
Так было и со мною. Я начал осознавать, где очутился и что именно меня окружает, и задумался: как быть, если на меня нападут? Внезапно безо всякой видимой причины я понял, что мне грозит опасность. «Не подавай виду и сиди спокойно», – нашептывало благоразумие. И я сидел спокойно, не подавая виду, потому что знал: за мной наблюдают две пары злобных глаз. «А может, и больше», – боже мой, какая страшная мысль! Быть может, хибару с трех сторон окружили негодяи! Быть может, я очутился среди шайки отъявленных головорезов, каких только и могут породить полвека беспрестанных революций.
Чувство опасности заставило мой ум работать быстрее и обострило наблюдательность. Я сделался гораздо внимательней, чем обычно, и заметил, что взгляд старухи то и дело оказывается обращен на мои руки. Опустив глаза, я понял, что причина – в кольцах: на левом мизинце у меня была большая печатка, а на правом – перстень с крупным бриллиантом.
Я подумал, что, если мне и правда грозит опасность, прежде всего следует не вызывать подозрений, и потому постепенно перевел разговор на тряпичников, сточные канавы и то, что можно там отыскать, а затем естественным образом перешел к драгоценным камням. Улучив момент, я поинтересовался у старухи, разбирается ли она в этом вопросе. Она ответила, что немного разбирается. Тогда я протянул правую руку, показал ей бриллиант и спросил, что она о нем думает. Старуха пожаловалась на слабое зрение и склонилась низко к моим пальцам.
– Прошу прощения! Так вам будет лучше видно! – сказал я как можно более небрежным тоном, снял перстень и отдал ей.
Морщинистое лицо старухи жутким образом оживилось, когда она прикоснулась к камню. Старая карга исподтишка бросила на меня молниеносный взгляд.
Потом склонилась над перстнем, будто бы изучая его. Лицо ее скрылось в тени. Старик, вперив взгляд в пространство перед хибарой, шарил по карманам. Выудив завернутый в обрывок бумаги табак и трубку, он принялся ее набивать. Я воспользовался минутой, когда никто за мной не следил, и с осторожностью огляделся. Лачугу окутывали сумерки, и все вокруг стало тусклым и расплывчатым. Вот мерзостные зловонные кучи, вот жуткий, запятнанный кровью топор, прислоненный к стене в правом углу, и повсюду, невзирая на сгущающуюся темноту, можно различить злобно горящие крысиные глаза. Они светятся даже сквозь щели в дальней стене – у самой земли. Но постойте-ка! Те глаза вдалеке слишком большие, слишком ярко и злобно блестят!
Сердце мое замерло в груди, и я впал в некое головокружительное состояние сродни экстазу и не успел рухнуть лишь потому, что вовремя очнулся. В следующий миг я сделался спокоен и хладнокровен, все мои силы пришли в совершеннейшую готовность, самообладание вновь оказалось на высоте, чувства и инстинкты – настороже.
Теперь я полностью осознал грозившую мне опасность: меня окружили отчаявшиеся местные обитатели, они наблюдают за мной! Я и понятия не имел, сколько их лежит сейчас, притаившись за лачугой и выжидая момент для нападения. Я знал (и они тоже это знали), что я крупный и сильный мужчина, а еще англичанин и не сдамся без боя. Поэтому и я, и они выжидали. Я решил, что последние несколько секунд дали мне преимущество, ибо теперь я представлял себе меру опасности и понимал, в каком положении очутился. Теперь, подумалось мне, пришел черед испытать свою храбрость и выдержку – а позже, возможно, мне придется проверить и умение драться!
Старуха подняла голову и сказала с довольным видом:
– Превосходно! В самом деле, прекрасный перстень! Боже мой! Когда-то и у меня было много таких, а еще браслеты и серьги! О да! В те славные деньки весь город ходил у меня на привязи! Но нынче они забыли обо мне! Забыли! Нынешние? Эти обо мне и не слыхивали! Быть может, их деды помнят меня, да и то не все!
Она рассмеялась хриплым каркающим смехом, а потом (и должен признаться, меня это поразило) отдала мне перстень жестом, в котором проскользнул намек на старомодную грацию, не лишенную некоторой печали.
Старик, уставившись на товарку с внезапной злобой, привстал с табурета и просипел:
– Дайте-ка взглянуть!
Я протянул ему перстень, но старуха вмешалась:
– Нет! Не давайте его Пьеру! Пьер чудаковат. Все теряет. А перстенек такой красивый!
– Старая карга! – гневно огрызнулся тот.
– Погодите! – внезапно произнесла старуха нарочито громким голосом. – Я расскажу вам об одном кольце.
Что-то в ее голосе меня насторожило. Быть может, всему виной моя тогдашняя чрезмерная чувствительность – ведь нервы у меня были взвинчены до предела, – но мне показалось, что обращается старуха не ко мне. Я