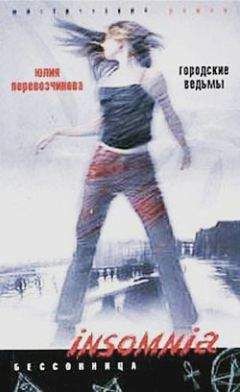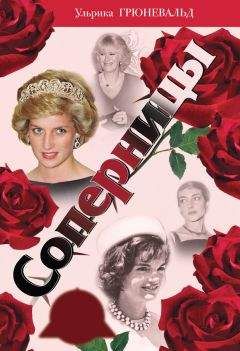Это потом он сам ходил в загс, писал длинные бумажки, признавая Федора, а тогда… тогда ей казалось – все. Не будет ей больше никакого доверия. Провалилась, как явка профессора Плейшнера. И это было вдвойне обидно, потому что не задумывалось Наташкой старой как мир женской хитрости с беременностью. Случайно вышло. Она сама не знала, что делать со своим состоянием. Пока не появилось нечто новое: помимо непрекращающегося токсикоза и аллергии вдруг возникло восхитительное чувство неодиночества. Маленький человек внутри, а она сразу знала, что это мальчик, делал ее защищенной от жестокости этого мира. От любой. Даже от Сашкиной. Особенно от Сашкиной. Она ощущала в себе удивительную, древнюю как мир женскую правоту. Потому что несла жизнь. И Лютов переменился. Может, поверил, а скорее всего, просто привык. Стал приносить всякое разное. Например, полведра собственноручно выловленных и сваренных раков. Перепало всем, даже прожорливой Голде, хотя ее Сашка как раз не очень-то жаловал. В общем, за девять месяцев все как-то устаканилось. Когда Федор появился на свет, стало намного хуже. Сын орал первые полгода своей жизни, как говаривала бабушка, «будто за язык подвешенный». Наталье казалось – еще немного и она сойдет с ума от Федькиных воплей и недосыпа. Лютов с ребенком не сидел. Даже не гулял, ссылаясь на большую занятость. Заходил, правда, часто, но на короткое время – денег подкинуть или продуктов. Честно говоря, Наталье было не до него. Она даже спокойно пропустила мимо ушей сплетню о нелепом любовном приключении новоявленного отца с какими-то левыми бабами, любезно принесенную женой «друга семьи», по совместительству, естественно, подругой. Огорчаться сил не хватало. Спать хотелось. Однажды после утреннего пятичасового кормления мать взяла у нее Федора, давая передохнуть до восьми. Как только ребенок плавно перешел из ее рук в руки матери, Наташка упала в сон, как в обморок. Три часа показались одной минутой. Как будто закрыла глаза и открыла. К концу первого полугодия жизни сына Наталье пришлось полностью сменить гардероб – вещи болтались на ней как на вешалке. Знакомые здоровались через раз, говорили – похорошела, просто совсем другая, не узнать. И вправду, кое-кто совсем перестал узнавать бывшую подругу. Например, одноклассница, великая писательница в стиле «фэнтези» Галина Маевская вдруг ни с того ни с сего перестала здороваться. Смотрела как сквозь утренний туман, проходя по улице. Произошла сия перемена внезапно и без видимой причины, но почему-то совпала с раскрытием великой тайны – в тусовке наконец-то узнали, от кого родила Сажина. Орел Лютов хоть и задокументировал отцовство, но на весь свет об этом трубить не спешил. А тут проболтался. По пьяни. Кто-то пожалел Наталью, потому что Сашку все почитали «за птицу вольную и дикую», а кто-то порадовался за отца-героя… А кто-то просто перестал здороваться. Закономерно, если разобраться… Роман свой они всегда скрывали, конспирацию бывший разведчик соблюдал жестко. Может, надеялся вернуть первую жену, а может, по каким другим причинам, Сажина не вдавалась, просто играла по его правилам. Любила очень. Любого. И, как бронепоезд у «мирных людей», всегда стояла на «запасном пути», смазанная и на ходу, надежно прикрытая маскировочной сеткой. Никто и не догадывался. Почему Лютов решил Наталью с Федькой «расчехлять», не ясно. Видно, время пришло. Вот тогда Маевская и вычеркнула Сажину из числа своих знакомых. Разом. Скорей всего, не смогла простить, что Наталья столько лет все от нее скрывала, а ведь считались подругами. А возможно… Сажина подозревала, что все не просто так, не в одной ее неискренности дело, были подозрения, что во внезапном холоде замешана пресловутая полигамность любимого, но подозрения подозрениями, а доказательств никаких. Глупо идти на поводу у ревности, так и до паранойи допрыгаться можно.
Странно, почему именно ей выпала эта безумная любовь? Тихая девочка из хорошей семьи, такая разумная и рациональная… Как ее угораздило? Но ведь угораздило же! Никто и никогда не занимал в ее сердце столько места, как Лютов. Даже Федор. Стыдно признаться, но даже к сыну она испытывала менее сильные чувства, чем к его отцу. Сколько себя помнит, никого сильнее Сашки полюбить не могла. Чувствовала его на расстоянии, болела его болью, всегда знала, что он думает и кем увлечен. И принимала. Просто болезнь какая-то, а не любовь. Когда однажды, в самом начале их романа, от великих переживаний и общей неустроенности Лютов решил завербоваться в иностранный легион, она чуть с ума не сошла от страха за него. Тогда Наталья всей кожей ощутила – пропадать собрался. Возникла коварная мысль использовать древнее колдовство и связать его жизнь со своею не для того, чтоб любил (кто-то очень мудрый в ней подсказывал – любви от этого не получится), а чтобы, если с Сашкой что-то случится, самой сгинуть вслед за ним. Зачем жить, если его нет? Не стала. Поняла – бессмысленно. Она и так сгорела бы как свечка и отправилась бы искать тень любимого в царстве мертвых. Наталья никогда не забудет, как ходила по съемной квартире тигрицей, загнанной в угол, разве что об стены не билась от отчаяния. Спасла Феоктистова. Она возникла на пороге, маленькая, взъерошенная, с ветками полыни и другой какой-то травы в одной руке и начатой бутылкой пива в другой.
– Ну? Чего орешь на весь астрал? Позвонить что ли не могла? Что случилось?
Сажина, как могла, с пятого на двадцатое рассказала об очередном зигзаге любимого с предстоящей вербовкой.
– Да, – вздохнула Феоктистова, – в башке у него изрядно насрано. Надо бы почистить. Может, хоть дорогу увидит… А, кстати, приведи-ка его ко мне, можешь? Или сюда? Я приду. Сюда даже лучше. У меня, сама же знаешь, не квартира – проходной двор!
Феоктистова жила рядом, на канале Грибоедова, и как всякий человек, имеющий жилье в центре, страдала от набегов выбравшихся погулять знакомых.
– Ладно! Давай не кисни! Я сейчас тебе поколдую – поле очищу, может, на него тоже что снизойдет! Зажигай плиту!
Спорить с неистовой Ольгой Феоктистовой было совершенно невозможно, и Наталья бодро, нервной припрыжкой, поскакала на кухню. В конце концов – шанс отвлечься от тоскливых мыслей и назойливых страхов за любимого.
– Четыре конфорки зажигай и дай мне какую-нибудь кастрюлю старую – будет бубен! Желательно побольше, – донеслось из комнаты.
Когда синим огнем занялись все четыре маленьких костра на старой плите, а за стенкой обеспокоенно зашуршала старая неистребимая крыса, наводившая первобытный ужас на бывшую медсестру Уколову, на кухне появилась Ольга. На шее у нее красовались четки из разноцветных камней, разделенных просверленным грецким орехом, из которого торчала кисточка алого шелка. Лоб Феоктистовой перевязывала старая лента от магнитофона, а на запястьях красовались обычные маленькие четки.