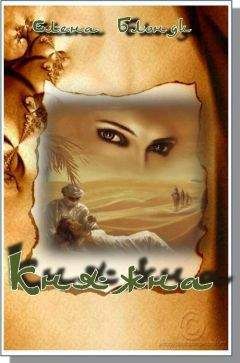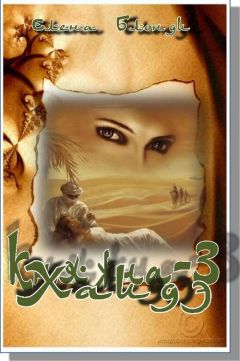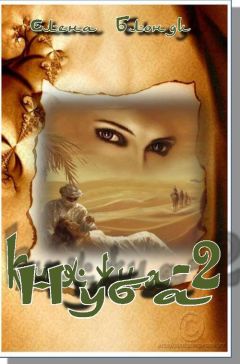Все лица обратились к ней.
— Нет, — девочка закинула руки, покрепче отжимая волосы, — я на деревья смотрела.
— Ну, Хаидэ! Ты увидала его и остановилась! Да!
— Нет.
Теперь все головы повернулись к стражу. Тот умолк, темнея расстроенным лицом.
— Но ты молодец, Сокаи, что поднял тревогу, — похвалила девочка, — вдруг бы и вправду кто-то… Молодец.
В тот день еле дождалась ночи. Замучили вопросами. Торза десять раз все заставил пересказать. Где сидела, как раздевалась, как в воду входила. Куда смотрела. И куда страж смотрел.
Потом Флавий прицепился. Он другие вопросы задавал. Какого роста, во что одет, какие волосы.
Хаидэ честно ответила: желтый песок, длинные ветви слив роняют лепестки. Солнце просвечивает нежную листву, истекая горячим медом будущего лета. Красиво и пусто. Стояла вот, смотрела.
Флавий даже посмотрел с уважением. Забормотал стихами, кинулся записывать. А Хаидэ из-за его вопросов точнее припомнила, какой был незнакомец, которого и видела всего пару мгновений. Высокий, гибкий. Похоже, сильный и быстрый, подумалось ей, как черная молния. Волосы короткие совсем. Потому что шея видна и голова сверху круглая, не лохматая. По бедрам затянута маленькая повязка из светлой ткани, а сами бедра мускулистые, мощные. И ладошка светлая, будто в глине степной запачкал. Лица не разглядела — жаль. Черное. Только глаза и видела.
Зато узнала от Флавия, что есть такая страна, где люди совсем черные. Там — жарко, зимы нет. И слушая, пожалела, что нет. Потому что, если это не дух, то, как он тогда зиму здесь пережил? Снег, мороз, ветер. Конечно, иметь такого духа тоже хорошо. Если он добрый. Но лучше бы — не дух. Живой.
И только когда, наконец, Торза отпустил ее в палатку, Хаидэ вспомнила, ведь она видела черного воина, в день смотрин! А потом был сон про глаза. И еще вспомнила, как в первый раз она сбежала от охраны, на Брате в степь. Занесло их в болото, лед не выдержал. Брат провалился, ржал, бил копытами ледяное крошево, выдавливая на белое жирную черную грязь. А вокруг только рыжие тростники и птицы. Она тащила повод изо всех сил, потеряла шапку. И побежала обратно к стойбищу. Рыдала отчаянно, наплевав, что она воин, спотыкалась, проклинала намокшую тяжелую одежду.
А когда уже завиднелись палатки, Брат ее догнал. Мокрый, грязный — как она сама. Шапка ее на стремени болтается, зацепилась. Ох, как же Хаидэ обрадовалась тогда! На ходу, наклоняясь с седла, целовала Брата в шею.
Укладываясь спать в своей палатке, она укладывала в голове воспоминания, выстраивала и собирала их, заворачиваясь в тонкое льняное покрывало и не отвечая на причитания Фитии. Напряженно думала, а может Брат тогда и не выбрался сам? Может, спас его этот незнакомый сильный дух?
Хорошо бы не дух, думала тринадцатилетняя девочка в небольшой палатке из шкур. И тогда у Ахатты пусть будет Ловкий, если они любят друг друга так сильно. А у Хаидэ будет черный воин. Совсем ее воин, только ее. Быстрый, высокий, красивый. Если Брата вытащил — сильный. Вот сейчас полог откинется, он проберется в палатку и ляжет рядом. Нет, чего зря лежать. Они возьмут Брата и поедут в ночную степь. Будут скакать быстро-быстро, так чтобы ветер в ушах. Пусть он держит ее своими черные руки со светлыми ладонями. Говорит он, конечно, на их языке, спохватилась Хаидэ, метчая. Хорошим красивым голосом говорит. И смеется. Вместе они доскачут к самому берегу моря, где мягкая высокая трава на обрыве. Брат будет пастись, а они плавать. И — есть ракушки. Всю жизнь.
… Она заснула тогда, в палатке, холодной еще весенней ночью, так же крепко, как заснула сейчас, вспоминая. Откинувшись на деревянную спинку кресла, сжимала в руке гладкую стеклянную рыбу. А рядом, на смятых покрывалах ее богатой постели, неподвижно лежала гостья из прошлого, которое нашло Хаидэ само. Приплыло стеклянной рыбой, толкнуло в уши степными словами о камне и тростнике, и скрутило время, что до сих пор текло в одну сторону, в петли и кольца, как скручивается водоворот над темными омутами посреди торчащих из воды серых скал. И надо быть осторожной, идя по ходу скрученного времени, чтоб оно не затянуло тебя в тайные, невидимые глубины.
Время стояло морем, текло реками и поднималось от самого себя столбами белесого пара, витыми, как мраморные колонны, которые огромной рукой скрутил великан, играя, да так и оставил. Витые, вырастали из сизой непрозрачной поверхности, по которой на взгляд можно пробежать, легко касаясь босыми ногами, но на деле — ступишь и провалишься, мелькнешь вниз, в тяжелую и вязкую воду, туда, где все темнее и темнее, и только движутся по сторонам смутные тени.
Хаидэ опускалась и всматривалась, боясь распознать в тенях ужасное. Но они были. И потому не закроешь глаз и не отвернешься. Но и глядя, рассмотреть не могла.
— Ли-са, — шепот тронул ухо и вдруг все посветлело, внизу, под повисшими босыми ногами сверкнул желтизной песок, а по сторонам загорбатились степные курганы, будто легшие огромные кони, блестят крупами, изгибают шеи, опуская морды.
— Я… — она коснулась песка пальцами ног и недоверчиво встала покрепче. Медленно подняла руки, проводя ими по недавно плотной воде. И улыбнулась, когда, чирикнув, порхнула из-за спины степная птица-черноголов, полетела, крича и дергая рогулькой хвоста.
— Лиса, это свет памяти, он превращает бездну в живое. Твоя память проснулась, по-настоящему. Ли-са…
— Меня уже давно так никто не звал, и я… я изменилась, — она не хотела оглядываться, чтобы подольше гадать, кто пришел, кто шепчет, превращая мутные воды в яркий свет, в запахи летней степи, в неровность камушков под босыми ступнями.
— То, что прошло, лишь наполнило тебя, Лиса. Оно никогда не уйдет. Надо только уметь справляться с тем, что внутри. Не выбрасывать и не убивать. Не прогонять и не закрывать глаз. Видеть и принимать в себя. Изменилась? Да. Меняйся.
Хаидэ повернула голову и рассмеялась с облегчением. Ахатта стояла напротив, щурила узкие глаза, придерживала на плече ремень горита с торчащими стрелами. Улыбнулась. И мир вокруг стал ярче, еще ярче, засверкало сбоку синее полотно с белыми искрами, полыхнули зеленью и желтизной заросли тростника.
— Морская река! Мы на Морской реке! Снова!
Схватив Ахатту за руку, Хаидэ оглядывалась, дышала глубоко, смотрела жадно, только сейчас понимая, как же больно и глубоко сидела в ней степная тоска, которую она вязала цепями, как злого красавца-леопарда, не давая кинуться и загрызть. Потому что хотела выжить и должна была выжить, так повелел отец. Не только повелел, — попросил, когда увозили ее в полис.