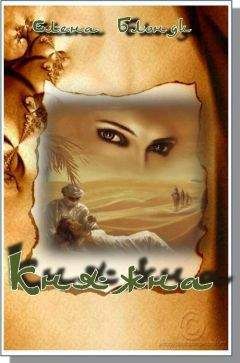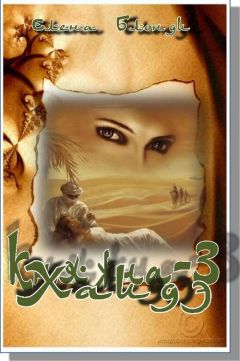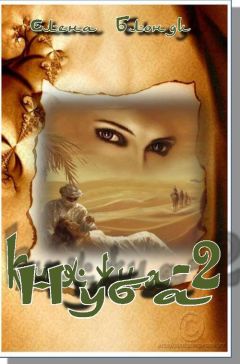— Оно все, как настоящее, Ахатта! Но ведь это прошлое? Морская река того года, когда пришел Нуба. Даже если сейчас нам с тобой туда, там все будет не так.
— Если попадем, да. Но не в тебе. Все остается с тобой, княжна.
— Да. Да!
Потянув подругу за руку, она побежала, не успевая оглядываться, дышать, сторожить ухо, нажимала босыми пятками, чтобы песок с силой выворачивался из-под ног. Ветер, горячий и звонкий, рвал волосы, кидая их в лицо, и отовсюду набегал запах полыни, чабреца и птичьей травки. Синяя вода приближалась, белые, кипящие под солнцем, блики бежали в стороны, расходясь, и между ними в толще волны кивали купами черных водорослей разновеликие камни.
— А где Исма, Ахатта? Он тоже придет в мой сон?
Маленькая ладонь стала жесткой, выдернулась из руки княжны, и та остановилась на бегу, задохнувшись.
— Ахатта?
— Не кричи, птичка. Разбудишь ее.
Фития гладила волосы Хаидэ, придерживала за плечо. Задрожав, та с трудом спустила с кожаного сиденья затекшие ноги. Схватилась руками за подлокотники и вгляделась в лицо спящей подруги.
Спальню заливало солнце позднего утра. Одну штору нянька задернула так, чтобы постель оставалась в тени, и из темноты лицо Ахатты белело смутно и спокойно. Закрыты глаза и сомкнуты губы, а больше и не разглядеть.
— Она спит…
Хаидэ постаралась не думать о том, что случилось с Исмой Ловким, и о чем не успела сказать ей во сне подруга. Они связаны, всегда, и каждый воин племени знает, если с близкими случается плохое. Должна бы знать это и Хаидэ, но так складывалась ее жизнь в доме Теренция, что невидимая связь истончилась и ослабела, и сама она была только рада этому. Теперь ей ждать слов, сказанных вслух. И думать о них.
— Что?
— И ты поспала, моя радость. Все хорошо, — повторила нянька, — Гайя ушла готовить тканье, я отослала ее. А Мератос и Анатея ждут тебя у бассейна.
— Что Теренций? Проснулся?
— Они уже шумели. Омылись и совершили массаж. Пили утреннее вино и теперь снова спят, чтобы отправиться в городской совет после полудня.
Слушая няньку, Хаидэ осматривала лицо подруги, нагнувшись, принюхалась, хмуря брови. Положила ладонь на вялую прохладную руку, свисавшую с кровати, и поправила ее, устроив на покрывале. От раненой пахло не только травами, вчерашней яростью и смытой кровью. Был еще неуловимый запах, дразнящий своей непонятностью. Может быть, так увядает цветок с сильным ароматом…. Или умирает старый мед в заброшенной колоде, полной мертвых пчел, увязших в своей драгоценной пище?
Она распрямила спину, поправила растрепавшиеся волосы. Теренций будет весь день занят, слава богам. Перед советом все отправятся в храм Аполлона. А вечером может быть снова придут пировать. Или еще что придумают. Хорошо, что сегодня не надо сидеть в перистиле, принимая гостей.
— Фити, ты сиди с больной.
— Да, птичка, я буду тут.
— А где этот? Египтянин?
— Ты бы уж вызнала имя, — ворчливо заметила нянька, прибирая с пола покрывала, на которых спала княжна, — а то, как девчонка, право, этот да тот.
— Тот. Это имя, нянька, знаешь? Так зовут одного из египетских богов. Кажется, у него птичья голова.
— Какие страсти! Ну, у твоего-то, голова не птичья, человеческая голова. Больно мудреная только. Вон как вчера словами кидались.
— Вчера? — Хаидэ припомнила вечернюю беседу. И правда, вчера, а кажется, столько времени прокатилось.
— Хаидэ! — голос грянул с лестницы и смолк. И снова, не приближаясь, — Хаидэ! Ты или нет хозяйка дома Теренция? Время совершить обряды Гестии и Артемиды!
Подойдя к дверям, Хаидэ сказала вниз:
— Я скоро приду, муж мой.
— Надеюсь. Дела мои не ждут, и без меня их не решат.
— Ну, у этого сегодня в голове для мудреностей места не будет, все вином залил, ровно бочку под самую затычку.
— Не ворчи, Фити.
Спускаясь по лестнице, Хаидэ не стала пересекать внутренний дворик, а прошла в купальню узким коридорчиком, чтоб не встречаться с Теренцием.
После ванны, одетая и причесанная, молча приняла участие в ежеутреннем ритуале. Склоняла голову, когда надо, складывала руки и шептала восхваления Гестии, а та глядела на нее равнодушно яркими глазами, нарисованными по белому мрамору. Статуэтку Артемиды принесли в перистиль и бережно установили на временный алтарь. А после, овеянную благовонными дымами, унесли в комнату за покоями хозяина дома.
Облегченно вздохнув, Хаидэ заторопилась к себе наверх.
В спальне все было по-прежнему, каменным сном спала Ахатта и сидела рядом с ней старая нянька, крутя в руке точеное веретено. Из угла около двери поднялся навстречу египетский жрец и поклонился княжне, прижимая к груди темную руку.
— Ты вчера совершила смелый поступок, прекрасная госпожа. Не каждая женщина решится на такую мену.
— Мену?
— Твой танец. Ее жизнь.
— Не у каждой женщины есть такая Ахатта, жрец.
Египтянин молча наклонил голову. Солнце рассыпалось желтыми крошками по стриженым концам волос. Хаидэ прошла к постели и снова села в придвинутое кресло. Спросила тихо, чтоб не разбудить больную:
— Как твое имя, жрец?
Египтянин устроился рядом с кроватью, сев на скрещенные ноги, пощупал неподвижную руку Ахатты и поднял на Хаидэ серые глаза.
— Какое имя сказать тебе, прекрасноликая?
— У тебя их много?
— Да.
— Почему?
— Мы не говорим. Мы задаем друг другу вопросы, — он улыбнулся.
— Потому что голодные, — подала голос Фития, — я принесу вам поесть.
Завтракать сели у широкого подоконника в соседней комнатушке, куда нянька принесла свежего хлеба, фиников и яблок, нарезанного полосками вяленого мяса.
— Фити, а помнишь, ты делала мясные шарики? Вкусные.
— Так сделаю.
— Потом, потом. Расскажи мне о своих именах, жрец.
Мед капал с ломтя белого хлеба, и мужчина подставил палец, облизал, запил ячменным пивом из глиняной кружки.
— Мой отец владел лучшей в городе ювелирной мастерской. А моя мать долго ходила бездетной. И потому, когда на седьмой день моей жизни настало время выбрать одно из семи имен, отец начертал на именинной свече имя Адджо — сокровище, а мать на другой — Фенуку, что значит — рожденный поздно. Когда я кричал, еще безымянный, отец разворачивал мокрые пеленки и смеялся, разглядывая меня. И третьим именем на свече стало Ур, что значит — большой. А мать добавила свое — Уника, сияющий. Слушая гомон толпы за стенами дома, в то время в городе случались беспорядки, они избрали имя самое нужное им — Тумэйни, надежда. И испугавшись, что, став явным, все может разрушиться и исчезнуть, назвали шестую свечу — Именанд, скрытый. Семь свечей сгорают в священном сосуде, и седьмое имя не должно было быть слишком красивым, дабы боги не гневались на гордыню людей. Для соблюдения божественного произвола годилось любое насмешливое или презрительное имя, чтоб богам было из чего выбирать, а родителям — из-за чего волноваться. Потому отец, не имея сил начертать Уомукота, неуклюжий или Иаби — слабый, дал седьмой свече имя Кеймнвати, темный мятежник.