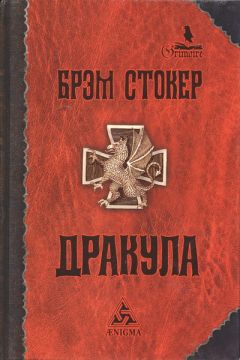пустошь, я заглядывал к нему в гости; но в эти моменты его охватывало такое смущение и беспокойство, что мне стало неловко за свои визиты. И конечно, он никогда и ни при каких обстоятельствах не пришел бы в гости ко мне.
В один из воскресных дней, ближе к вечеру, я возвращался через пустошь после продолжительной прогулки и, поравнявшись с домиком Джейкоба, остановился у двери, чтобы узнать, как он поживает. Дверь оказалась затворена, и я решил было, что хозяин отсутствует, и постучал просто так, по привычке, не надеясь на ответ. К моему удивлению, изнутри донесся слабый голос, хотя слов я не разобрал. Я без промедления вошел в дом и обнаружил, что Джейкоб, полуодетый, лежит на кровати. Он был бледен как смерть, с лица его скатывались крупные капли пота. Его руки судорожно сжимали одеяло – так утопающий хватается за все, до чего может дотянуться. Едва я вошел, он приподнялся на постели, устремив перед собой дикий, затравленный взор, но, узнав меня, с глухим вздохом облегчения откинулся на подушки и закрыл глаза. Я постоял подле него минуту-другую, покуда он с трудом ловил ртом воздух. Затем он открыл глаза и посмотрел на меня, но с таким отчаянным и скорбным выражением, что – ей-богу! – я предпочел бы увидеть на его лице прежний застывший ужас. Я присел рядом и спросил, как он себя чувствует. Поначалу он лишь коротко изрек, что здоров, однако потом изучающе оглядел меня, приподнялся, опершись на локоть, и произнес:
– Сердечно благодарю вас, сэр, но я говорю правду. Я здоров – в общепринятом смысле слова, – хотя одному Богу известно, не существует ли болезней куда хуже тех, о которых ведают доктора. Раз вы так добры, я расскажу вам, но с условием, что вы не откроете этого ни одной живой душе, иначе меня постигнет еще большее и худшее несчастье. Меня мучает дурной сон.
– Дурной сон? – переспросил я, надеясь ободрить его. – Но сны рассеиваются с приходом рассвета… даже нет, с пробуждением. – Тут я умолк, ибо прочел ответ в безутешном взоре, которым он оглядел свое маленькое жилище, прежде чем снова заговорить.
– Нет, нет! Так бывает у тех, кто благополучен и окружен любимыми людьми. Но у тех, кто обречен мыкаться в одиночестве, дела обстоят в тысячу раз хуже. Какая мне радость просыпаться здесь, в безмолвии ночи, посреди обширной пустоши, где раздаются чьи-то голоса и мелькают какие-то лица, из-за которых явь становится еще ужаснее, чем мой сон? Ах, молодой человек, у вас нет прошлого, способного населить темноту и пустоту мириадами звуков и лиц, и дай Бог, чтобы так было и впредь!
В его тоне слышалась такая непреклонная убежденность, что я не стал уговаривать его отказаться от уединенной жизни. Я ощущал влияние какой-то скрытой силы, природы которой не мог постичь. Не зная, что сказать, я испытал некоторое облегчение, когда он продолжил:
– Я вижу этот сон уже две ночи подряд. В первый раз это далось мне нелегко, но я выдержал. А вчера вечером ожидание показалось мне едва ли не хуже самого сна… пока он не повторился и не вытеснил всякое воспоминание о меньшей муке. Я бодрствовал до рассвета, а потом сон опять одолел меня, и с того момента я пребываю в состоянии, сравнимом разве что с предсмертной агонией, во власти ужаса перед наступающей ночью.
Еще до того, как он закончил, я почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы заговорить с ним более ободряющим тоном:
– Попытайтесь заснуть сегодня пораньше… прежде чем наступит ночь. Вы как следует отдохнете, и обещаю, что никакие дурные сны впредь посещать вас не будут.
Он лишь безутешно покачал головой. Я посидел с ним еще немного, после чего отправился к себе.
Вернувшись домой, я принялся собирать все необходимое для ночлега у Джейкоба Сеттла, так как решил разделить с ним его одинокое бдение в домике посреди пустоши. Я рассудил, что, если ему удалось заснуть до заката, он проснется задолго до полуночи; поэтому, как раз когда городские часы били одиннадцать, я стоял у его двери с сумкой, в которой находились мой ужин (а вдобавок к нему полная фляга), пара свечей и книга. Над пустошью разлилось яркое лунное сияние, стало светло почти как днем; но то и дело по небу скользили черные облака, и темнота, наступавшая в такие моменты, казалась – по контрасту со светом луны – едва ли не осязаемой. Я тихо открыл дверь и вошел в дом, не разбудив Джейкоба, который спал, лежа навзничь на кровати. Он был неподвижен, и с его бледного лица, как и прежде, градом катился пот. Я пытался представить себе, какие видения проносились в эти минуты перед его закрытыми глазами – видения, очевидно полные скорби и страданий, следы которых читались у него на лице, – но воображение отказывалось служить мне, и я принялся ждать пробуждения друга. Оно произошло внезапно и поразило меня до глубины души, ибо глухой стон, сорвавшийся с побелевших губ Джейкоба, когда он приподнялся на постели и тут же снова откинулся назад, был явным следствием того, что занимало его ум во время сна.
«Если это и сон, – сказал я себе, – то вызван он, по всей вероятности, каким-то донельзя ужасным эпизодом реальной жизни. Что же это за злосчастное событие?»
Пока я размышлял, он осознал, что я нахожусь подле него. Мне показалось странным, что он ни минуты не сомневался, сон перед ним или явь, как сомневается обычно, глядя вокруг, только что проснувшийся человек. Вскрикнув от радости, он схватил мою руку и сжал ее своими влажными, дрожащими пальцами – так испуганный ребенок приникает к тому, кого любит. Я попытался успокоить его:
– Ну будет, будет! Все хорошо. Я пришел побыть с вами нынешней ночью, и сообща мы попробуем одолеть этот дурной сон.
Он неожиданно выпустил мою руку, упал обратно на подушку и закрыл глаза ладонями.
– Одолеть… дурной сон? О нет, сэр, нет! Ни одному смертному не под силу одолеть