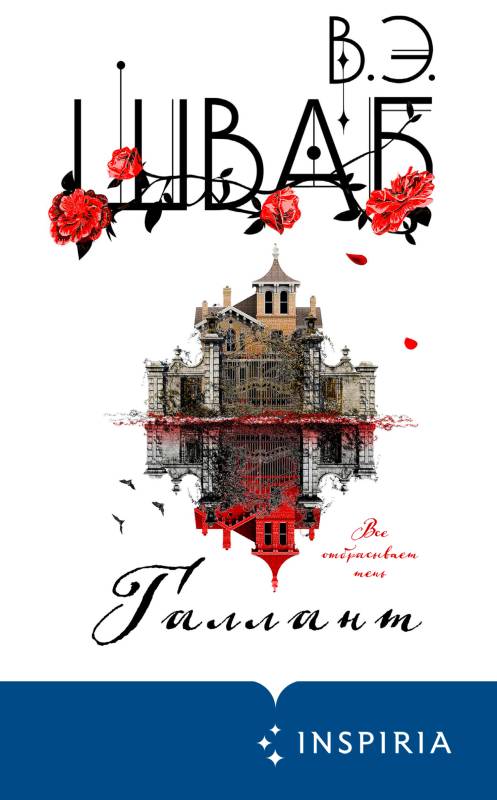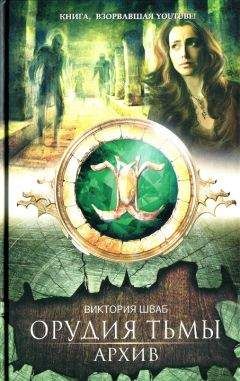крайней мере, точно не голос Оливии.
– Ты должна вернуться к двери, – настаивает он.
Упрямо вздернутый подбородок, решительный взгляд говорят: если попытка провалится, если Оливию схватят, он не придет. Мэтью оставит ее за стеной.
Что же до Эдгара и Ханны…
– Вы не должны покидать дом, – предостерегает он.
– А если что-то все же ворвется? – спрашивает Ханна. – Что тогда?
– Спускайтесь в погреб.
Эдгар фыркает, поправляя на плече дробовик.
– Вот уж нет.
– Вам нужно спрятаться.
– Может, мы и старые, но сил дать отпор хватит.
– Кого ты назвал старой? – фыркает Ханна и берет кочергу.
– Вы не Прио́ры, – мрачно говорит Мэтью. – Вы ему не нужны. Вам нечего отдать, а потерять можете всё.
– Этот дом такой же наш, как и твой, – возражает Ханна. – И мы будем его защищать.
– Вы умрете.
– Смерть всех забирает, – стоит на своем Эдгар.
Оливия смотрит на них – тех, кого только начала узнавать, стихийную семью, но видит лишь, как в бальном зале рассыпаются прахом танцоры.
До этого не дойдет, твердит себе Оливия, сжимая кулак. Повязка туго охватывает ладонь. Она пуста – блокнот и красный дневник остались на кровати, – но хочется держать что-нибудь. Чью-то руку или нож. Оливия вздыхает, разжимая пальцы.
Она замечает седину в локонах Ханны, сутулые плечи Эдгара, Мэтью, который едва жив, и с трудом сдерживает смешок. Так не смеются, когда тебе весело, этот смешок вырывается у тебя, когда на пороге беда.
Ханна крепко ее обнимает, и Оливии кажется, экономка вся укутала ее, словно одеяло. Простоять бы так вечность…
– Совсем дитя, – еле слышно бормочет Ханна.
Оливия чувствует, что на макушку ей капает слеза. Наверняка, как и она сама, Ханна вспоминает Томаса, а может быть, и Грейс, и Артура – каждого Прио́ра, которого знала и потеряла за стеной.
Экономка обхватывает ладонями лицо Оливии, поднимает и заглядывает в глаза.
– Возвращайся, – говорит она. – С Томасом или без, возвращайся.
Оливия кивает.
А потом Мэтью провожает ее в сад.
Ведет из одного дома к другому. Оливия в последний раз оглядывается на Галлант – Ханна и Эдгар наблюдают за ними из эркера, в угасающем свете силуэты едва видны. На собравшихся проводить их гулей: старика на окраине сада, дядю Артура у двери черного хода, женщину возле увитой зеленью решетки, мать, которая сидит на каменной скамье. Никто из них не пытается преградить Оливии и Мэтью путь к стене.
Однако, приблизившись к границе, она замедляет шаг. На земле веером лежит новая тень, будто свет, падающий из приоткрытой двери. Но ведь ворота заперты.
Оливия опускается на колени, чтобы рассмотреть след.
Все живое служило для него пищей, он съел каждую травинку, каждый цветок, куст и птицу, оставив после себя лишь кости и прах.
Как с таким сражаться? Оливия надеется, что ей все же не придется.
Она проводит рукой по траве – высохшей, хрупкой и черной. Дверь была открыта всего секунду или две, но за это время та сторона прожгла себе путь наружу. Что бы случилось через час? Через день?
Он пожрал бы все.
Оливия смотрит на свою руку, которая лежит на бесплодной земле. Существо за стеной может лишить наш мир жизни, но в том мире Оливия способна ее вернуть. Это оружие или слабость?
Неизвестно…
Оливия поднимается. Мэтью хмуро взирает на дверь.
– Ты уверена? – спрашивает он.
Вероятно, кузен видит в ней просто глупую упрямую девчонку, странную чужачку, ворвавшуюся в его странный мир, или еще хуже: очередную потерю. Он не знает, на что Оливия способна. Впрочем, она и сама не знает.
Мэтью смотрит на нее и вновь спрашивает:
– Ты уверена?
Оливия кивает, но не потому что уверена, а потому что другого ответа у нее нет. Она единственная, кто может сохранить Мэтью жизнь и вернуть его брата домой.
Сгустилась ночь. Оливия уже поворачивается к краю стены, но Мэтью вдруг хватает ее за руку и тянет назад. Оливия невольно застывает, не зная, хочет ли он устроить ей напоследок выволочку или обнять.
Ни то, ни другое. Кузен просто кладет руки ей на плечи и заглядывает в глаза.
– Я буду ждать тебя прямо здесь, когда ты вернешься.
Всю жизнь Оливия гадала, каково это – иметь семью.
Теперь она знает. Вот что это такое.
Кивнув, Оливия высвобождается из рук брата, потом набирает в грудь воздуха и шагает за стену.
Целую секунду будто ничего не происходит. Она снова в пустом поле, ветерок колышет высокую траву, тут и там между стеблями торчит чертополох. За краем поля высятся горы, зазубренные каменные пики далеки, будто нарисованные. Спиной Оливия чувствует стену, мир, что лежит за ней, и тепло сада.
Время вернуться еще есть.
Может, секунды или удар сердца, но пока оно остается.
Оливия зажмуривается и твердо стоит на месте. И между одним вдохом и следующим мир меняется. Она ощущает это, как ощущаешь пробегающее над головой облако, которое заслонило солнце.
Оливия открывает глаза. Поле исчезло, впереди простирается мертвый сад и руины старого особняка.
На балконе никого нет. Во тьме не светятся молочно-белые глаза, и все же рука Оливии невольно ныряет в карман, где спрятан охотничий клинок, короткое тяжелое лезвие в кожаных ножнах. Эдгар сунул его Оливии, перед тем как она ушла.
– Острием от себя, – посоветовал он, похлопав ее по плечу.
Оливии хотелось сказать, что она умеет пользоваться ножом, хотя резать ей приходилось только морковь да картошку.
Она не достает клинок – чем он поможет против твари во тьме, хватает и того, что нож при ней.
Иди, шипит голос в голове; Оливия усилием воли заставляет себя сделать шаг и крадется, будто вор, вверх по склону в сад.
Однажды в Мерилансе ее чуть не поймали.
Пробравшись к матушке Агате, Оливия стояла на коленях и рылась в прикроватной тумбочке – не по нужде, а от скуки. Вдруг ручка двери повернулась, и в комнатушку, шаркая, вошла старуха; аромат затхлых духов окутал спальню.
Под кроватью нельзя было спрятаться – там хранился всякий хлам, и если бы матушка включила свет, непременно увидела бы Оливию. Но этого не случилось. Вздыхая и спотыкаясь, Агата с остекленевшими от хереса матроны Сары глазами проковыляла по спальне и опустилась на кровать. Так она сидела и таращилась в никуда. Оливия поняла, что нужно