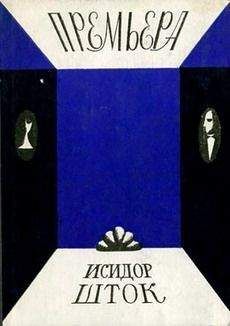Сначала она ничего не увидела — все было спокойно. Но — сверток на столе, тот самый, Маринин, который она должна была передать Диме, — был открыт.
Она помнила, что она его не открывала, даже старалась не прикасаться к нему без особенной нужды.
Но сейчас он был открыт…
И она видела теперь, присмотревшись, что края бумаги обуглились.
Она невольно вскрикнула, дыхание стало учащенным, она бросилась туда к свертку, что с переданным Диме предметом что-то случилось, но, подойдя ближе, перевела дыхание — все было нормально, она сейчас увидела старинную икону в хорошем состоянии, слегка подлеченную Марининой рукой, — только глаза Пресвятой Богородицы смотрели на нее тревожно, или — ей казалось? Она достала икону — оставлять ее в этой обугленной бумаге было нельзя, и — вздрогнула.
Все потемнело, она видела только огонь, и в центре этого огня металась девочка — та самая, которая появлялась до этого в видениях. Огонь становился все сильнее, а девочка — все слабее, и выхода у нее не было… Лике хотелось закричать, к горлу подступили слезы, и тошнота, и запах, этот запах становился все сильнее, вместе с огнем, и уже не было понятно, кто же кричит — девочка, погибающая в пламени, или она, Лика?
А потом все стихло, только хлопнула дверца машины и мужской голос произнес: «Все, поехали».
Лика не видела ни машины, ни того, кто это сказал, — но откуда-то уже знала, что это связано с Тенью.
Темнота, звук отъезжающей машины, запах пожара — все это было связано с той неразличимой, серой, бесформенной Тенью.
И почему-то — с Сашей…
Он долго не мог заснуть — хотя сегодня квартира уже не была, как обычно, пустынной и мертвой, она теперь снова понемногу наполнялась живым дыханием, и часть его дыхания была его, а часть — Ликина… И — еще икона перестала ему казаться мрачной, он теперь знал, что там, под слоем черной краски, живет настоящая радуга, дающая надежду.
Он улыбнулся и встал — ему не хотелось тратить время на сон, он и так спал все дни, находясь на грани реальности и снов, и сейчас ему хотелось окончательно вырваться, освободиться от этого гнета. «Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь», — напомнил он себе и тут же ответил — но утро приближается. Оно даже чувствуется, там, в груди, поет птичка радости, и — поет тихо пока, осторожно, а он просто боится ее спугнуть. Ведь в этом мире радость пуглива.
Пока варился кофе, смотрел в окно — пустынная улица, в самом конце призывно горит ларек с «курицей гриль».
«Кому она нужна ночью», — подумал он. А потом в голову пришло, что если эти ларьки светятся ночью, то нужно, и еще — что, наверное, было бы многим удобнее, если б не птицы в душе, а курицы — в желудке, и рассмеялся сам над собой, потому что — мысли собственные посчитал глупыми и смешными.
Кофе сварился, он включил музыку, тихую и нежную, успокаивающую, подумал, что давно уже так не радовался своей бессоннице, и ночь давно уже не была такой приятной.
Он даже не был уверен в грядущем утре — он же привык ждать от нового дня неприятностей, и поэтому, может быть, это ночное спокойствие было — драгоценно…
По радио тихо пел Азнавур на немного исковерканном русском, пел про вечную любовь, и было невозможно спрятаться от того, что он видит перед собой Лику, как будто — она и есть Вечная Любовь.
— Приближается утро, — прошептал он и улыбнулся.
Ему казалось, что его душа летит где-то высоко-высоко, а он — испытывает радость этого полета, и — в то же время ему страшно, потому что он — боится обмануться.
Но — разве Лика может обмануть?
Он достал бумагу и карандаш — ему хотелось вспомнить Лику, прикоснуться к ее взгляду, к ее улыбке — и начал рисовать, не так как обычно — нервными, порывистыми линиями, а спокойно, нежно, вдумчиво — наслаждаясь каждой линией ее лица, проникая в ее душу, пытаясь угадать — что их ждет, таких разных, и — в то же время похожих?
Он не замечал, как течет время — на часы посмотрел, только когда из этих хаотичных линий, нервных штрихов проступило лицо — такое живое и настоящее, ему даже показалось, что сейчас ее губы раздвинутся в улыбке и она что-нибудь скажет ему, как тогда: «Я очень хочу туда поехать», — и он ответит: «Конечно, я возьму тебя с собой». И он сказал это вслух:
— Я возьму тебя с собой…
И тут же — сам спросил: «Куда ты возьмешь ее? Вся твоя жизнь — это цепь обретений и потерь. Ты потерял всех, кого осмелился любить больше, чем имел право себе позволить. Зачем ты возьмешь ее с собой? Чтобы — потерять?»
Вот тогда он посмотрел в окно, где уже занимался рассвет, а потом на часы — чтобы увидеть, что уже шесть утра, а потом на портрет прадеда, и ему показалось, что прадед виновато усмехнулся, а потом…
Потом он вспомнил, как они говорили с дедом, и дед, рассказывая ему об английском романтизме, привел в пример Йейтса и Теннисона.
«Вот посмотри, Саша, какое разное отношение к жизни и смерти… И к Богу. У Йейтса: „What matter? Out of cavern comes a voice, and all it knows is that one word „Rejoice!““ — „Ну и что? Из склепа доносится голос, и он повторяет одно слово: „Радуйся!““, и это по сути только реминисценция из Теннисона, из стихотворения „Два голоса“: „And wherefore rather I made choice To commune with that barren voice, Than him that said, „Rejoice! Rejoice!““, и — они схожи по настроению на первый взгляд, но — чем ближе я подхожу к воротам смерти, тем больше мне кажется, что — Теннисон предупреждает, а Йейтс — смиряется…»
Тогда он ответил, что дед не прав, что и у Йейтса нет страха и уныния, но сейчас он тоже хотел бы послушаться Теннисона, внять его совету, и — тихо повторил строчку из его стихотворения:
— «Для чего же я вступил в беседу с этим унылым голосом, а не с другим, говорящим: „Радуйся!“?»
Но — теперь уже было поздно, унылый голос был впущен в сердце, и радость медленно угасала, уступая место страху — снова потерять, снова утратить, затянуть в свою собственную, личную пропасть эту девочку с удивительным светом в глазах и способностью почувствовать спрятанную радугу, девочку, без которой он уже не сможет дышать, и — с которой правильнее всего было бы — расстаться…
Лика проснулась рано и поймала себя на том, что ей хочется снова заснуть — как будто что-то случилось, что-то страшное для нее и для всех, и исправить ничего нельзя.
Она с трудом открыла глаза — заставила себя подняться, ощущая каждой клеточкой эту странную, непонятную тревогу, и — почему-то вспомнила слова: «Сны становятся продолжением жизни, и жизнь становится продолжением снов». На столе все еще лежал сверток, уже в новой бумаге, старая лежала рядом — Лика протянула руку, чтобы выбросить ее, но — отдернула. Как будто если она дотронется до обугленных краешков, она снова провалится в очередной кошмар.