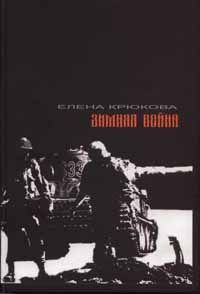Она медленно пятилась, уходила прочь от Леха, держа руки, завернутые в пуховый платок, около лица, утыкая нос и рот в козий пух, отнимая платок, улыбаясь, поднося его к лицу снова, чтобы влага, текущая потоками по щекам, вошла в ажурную вязаную ткань, впиталась, не стала заметна, нет, она не плачет, это только так кажется людям, она лучше сегодня изобретет новую помаду для вечно плачущих баб – чтоб они не рыдали зря: с земляничным запахом, с острым и властным ароматом, отбивающим жажду плакать, запрещающим слезы, засыпающим их горьким и сладким порошком, новогодними блестками, снегом, снегом, густо падающим снегом за окном, гасящим и огонь, и слезы, и любовь, и гул смертного боя.
– Отец Иакинф! Переведите, Бога ради, что он такое тут лепечет… говорит.
У мужика в туго обтягивавшей сухощавый торс форме с плеч глазели капитанские погоны. Волосы отсвечивали серебром в тусклом тоскливом свете керосиновой лампы. Электростанцию в горах разбомбили. Чтобы сготовить еду, солдаты жгли костры, а офицерам растапливали тщедушную печурку на КПП, в полковничьей избенке. Повариху убили. Кто, когда?.. Ходили слухи. Никто не знал. Разве узнаешь все про смерть на Войне.
Полковой толмач, армейский священник отец Иакинф, высокий, могучий, косая сажень в плечах, чернобородый, что твой атаман, – черные, как черешни, глаза горели и вспыхивали на обгорелом на холодных ветрах и жестком горном Солнце костистом лице, – наклонился ближе к раскосому старичку в стеганом ватном халате, в растоптанных чувяках. Старичок – бурят ли, монгол – глуповато щурился и жмурился на худосочный походный ламповый свет. Запахивал халат на голой груди. Седенькая пакля вокруг коричневой лысины торчала в разные стороны, как листья сухой степной полыни.
– Кто ты такой?.. Повтори еще раз.
Монгольский язык отца Иакинфа был безупречен. Он прожил в Южной Сибири, на границе с Китаем, много лет. Он мог и по-китайски, и по-бурятски, а при надобности даже и по-уйгурски, и по-хакасски. Он свободно читал и писал по-старомонгольски, и в каморке у капитана в красном углу висела красная, багрового цвета, цвета военного пожарища, шелковая мандала – Колесо Жизни, выделанная отцом Иакинфом, снабженная надписями из учений Татхагаты.
– Я Гэсэр-хан. Мое прозвище Хомонойа. Дай мне водки, прошу тебя.
– Капитан Серебряков!.. Он говорит, что он Гэсэр-хан, – отец Иакинф подмигнул капитану и хохотнул, – давайте поверим ему на слово! И выпить просит. Есть у нас выпить, капитан?..
Серебряков без слов шагнул к шкафу, хлопнул рассохшейся дверцей, вытащил початую бутыль. Белая ртутная жидкость плескалась в ней. Он рванул похабно чмокнувшую пробку, налил питье в подвернувшуюся под руку, забытую на столе чайную чашку без ручки. Старик схватил чашку и жадно припал к пойлу.
– О… это не водка, – залопотал он по-монгольски, – это не водка, это питье богов… такое – пьют на облаках… только не пытайте меня, я вам все расскажу, все, все расскажу!.. Я старый, и у меня больная печень. Все люди равны меж собой. Я поведу всех в бой, и после боя все будут равны и счастливы.
– Да он сумасшедший, капитан, – прогудел отец Иакинф, кусая черно-седой ус желтым зубом, – он черт те что несет. Может, отпустим его… к лешему?.. Бог не похвалит нас, если мы замутузим старика…
– Он не старик, – Серебряков поморщился, – он не просто старик. Исупов сказал мне, что он скрывал человека, важного для Армии… и переправил его враждебной стороне… с драгоценностью: с какой, он не назвал… с бумагами?.. с донесеньем?.. на Войне все драгоценно, что тайно…
– Человека, – снова усмехнулся священник, потер лоб задубелой смуглой рукой. – Не человека, капитан, а бабу. Все в части знали, что Исупов пригрел сумасшедшую бабу, отбил из этапа. Дурь какая!.. Господи, прости… и помилуй нас, грешных всех насквозь… а вот про драгоценность…
– Ты! – Серебряков подался к старику, взял его рукой за подбородок. – Не прикидывайся дурачком. И мы тут тебе не дурачки. Отец Иакинф, перетолмачь.
Медные монгольские слова ударяли о душный воздух каморки, как в гонг. Хомонойа послушно наклонил лысую башку.
– Милые, – нежно сказал он и еще хлебнул водки из калечной чашки, – милые. Как я вас люблю. Как я люблю людей, как мне их жалко. Девочку я отправил далеко, далеко. Вы ее теперь не найдете. И камень с ней. На животе у нее. Ее погрузили в брюхо железной летающей птицы, и птица поднялась в небо, и полетела на Север, на Север, над всей рыжей шкурой тайги, над сизой шкурой степей. И если бросить в небо серебряный нож горы, птицы не достигнуть. Она успеет. Спасется. Дайте мне еще водки перед тем, как вы расстреляете меня. Меня! – Он крикнул страшно, из его птичьего горла вырвался клекот и рев, подобный грому. Он выпрямился перед капитаном и священником, презрительно поглядел на православный крест из сусального золота, горящий на черной рясе. – Одна девчонка улетела далеко! Другая убьет чужого генерала! И тогда начнется Другая Война! Воистину Последняя! И это я, полководец Последней Войны…
Он захрипел, повалился грудью на стол. Полы ватного халатика распахнулись, обнажилась куриная, костлявая, волосатая грудка. Серебряков подхватил его под мышки.
– Иакинф… – Капитан задыхался от неведомого, смешного страха. – Влей ему в глотку еще водки! Он припадошный… Он не должен умереть здесь; я не душегуб… Другая девчонка…
Волосы у него на голове шевелились. Эта другая девчонка была маленькая, тощенькая, с длинными русыми волосами, похожая на русалочку, Женевьева, мать двоих малых детей, назвавшая себя женой Юргенса, прибывшая в часть вместе с детьми – один ребенок на одной руке, другой – на другой, – она кричала и плакала, разыскивая мужа, вопила, что хочет умереть вместе с ним, что измучалась без него, что все равно Война рядом грохочет, а умирать, так уж лучше вместе всем, а ее взяли да и забрили дело сделать: мол, ты хочешь увидать мужа, ты его увидишь, если выполнишь заданье одно; да что за заданье?.. а, совсем простое, ерундовое такое, просто пробраться в Ставку врага и уничтожить вражеского генерала, мы обучим тебя, как убивать, на Войне это раз плюнуть, нехитрому делу обучиться, – а если я откажусь!.. – если не буду!.. – ну, если ты откажешься, мы убьем твоих детей, только и всего. Да кто вы после этого?!.. Мы люди, ведущие Войну. А ты гражданка нашего государства, живого еще, воюющего еще. И, чтобы спасти свой народ… Что будет, если я его убью?! Война… остановится?!..
Да. Может быть.
Да или может быть?!
Да. Или может быть.
– Отец Иакинф, – Серебряков вытер тылом ладони пот со лба. – Старик потерял сознанье. Или умер. Возьмите его. Отнесите его в лазарет. Там, правда, нет свободных коек. Ничего. Его положат на полу, сделают укол… чем-нибудь отпоят. Врачи знают свое дело лучше нас.