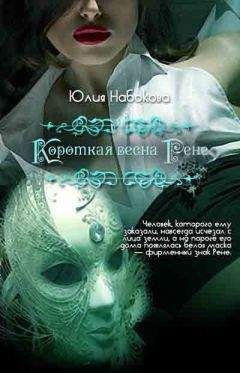– Pater Noster, – вдруг заговорил он, словно продолжая с полуслова, на котором его прервали.
– Fiat voluntas tua, – резко оборвала его хозяйка дома, не повернув головы. – Пиши с этого места, и не приставай!
“Все ясно, – подумал Макс, – пытаются сделать из меня идиота и специально говорят на латыни”.
Эти двое еще немного попрепирались. Макс сидел молча, испытывая унижение оттого, что почти ничего не понимает. Какие-то папы римские, весь этот религиозный бред, да еще разговаривают так, словно ненавидят друг друга. Его ведь предупреждали, что она ведьма, и что ночами в ее доме происходят дикие оргии, и что она любого сживет со света. Макс пытался вспомнить все, что слышал об этом доме, и тут заметил, что, продолжает молоть языком, что-то малодоступное человеческому пониманию, Маргарита внимательно рассматривает его своими круглыми светло-коричневыми глазами. Он вздрогнул. Ему показалось, что этот холодный анализирующий взгляд говорит одно: я все знаю. – Что? – спросил Макс, почему-то шепотом. – Красивые руки...
Он не понял, о чем она говорит, и снова спросил:
– Что?
– Я никогда не видела таких красивых рук. Не бывает таких ладоней, таких длинных пальцев. Можно потрогать?
И она коснулась его руки каким-то своеобразным, одной ей присущим жестом. И это легкое движение заставило Макса вдруг сразу поверить во все те слухи, которые доходили до него. Она не просто касалась, она закрепляла его за собой, а мимолетное прикосновение было не обычным, пусть даже оригинальным жестом, а печатью под подписанным приговором.
И вдруг все пошло совсем по другому сценарию. Почему-то уже не хотелось начинать разговор, ради которого он пришел. В тот вечер Макс так ничего и не сказал.
– Почему, Марго, ты всегда знаешь все заранее, как тебе это удается? Мы столько лет знакомы, но я до сих пор не выведал всех твоих секретов. Я знаю, о чем ты думаешь. О том, что я – свинья неблагодарная. Что ты и так дала мне слишком много, а то, чего я не получил, так то сам не смог взять. Что ж делать, не могу же я позаимствовать твое сознание и твой взгляд на мир. Хотя, наверное, это было бы очень интересно. Как мне хочется прикоснуться к твоему сознанию. К чему, к чему... к сознанию. А, я выражаюсь высокопарно, зато ты – весьма сухо. Словно ты и не человек вовсе, а счетно-вычислительная машина. Вечный приход, расход, баланс. Твой папа, случайно, не бухгалтер? Ну. Шучу, шучу...
Я опять написал Валентину. Что, он ответит, как думаешь? Я уже весь Париж закидал письмами – может, не доходят? А может, он на что-то обижен? Наша последняя встреча, кажется, была не очень удачной. Но, что получилось, то... Никто не заставлял его тогда так кричать. Да, к тому же, эта жуткая оранжевая футболка. Как можно такое носить?
Я не прикидываюсь идиотом! И вообще, опусти подбородок, иначе никогда этот несчастный портрет не будет закончен.
Конечно, я написал ему и о тебе, и об этой работе – я пишу всегда обо всем. Нет, про нищего не пишу, могла бы и сама догадаться.
Меня пугает, что в последнее время Валентин стал мне как-то (надо сказать помягче) не так интересен, как раньше. Если бы я ежеминутно не видел тебя, то, скорее всего, забыл бы о нем вовсе. Тогда я смог бы вытеснить его из памяти, заменить кем-то другим.
Странно все это. Ты – у меня есть, а его нет.
Ты смеешься, ты опять смеешься. Ты можешь обвинить меня в идеализме, в наивности, не стесняйся – мы слишком хорошо знаем друг друга, чтобы врать. Возможно, я и есть такой – наивный мечтатель, неприспособленный к жизни, слабо разбирающийся в политике и социологии. Скучный глупый субъект. И на все твои замечания отвечаю избитой фразой “Я так вижу”, что сродни “Кушать подано”. Ты умнее, талантливее, но, все равно, тебя не печатают, и никто тебя не знает, так ни все ли равно какими словами сотрясать воздух – все уйдем в небытие.
Хотя помнится, что и твоих бессмертных произведениях была фраза, которую я запомнил. Хоть что-то хранится сейчас не только в твоей голове и ящиках твоего письменного стола. Знаешь, какая фраза? Ты даже и сама ее не вспомнишь. “Желтые огни фонарей смотрели тускло”. Пожимаешь плечиками? Ну-ну...
У нее снова толпился народ. На этот раз по комнатам слонялись небритые представители “андеграунда”. Шагу нельзя было сделать, чтобы не наступить на чью-нибудь гитару. А уж о том, чтобы поговорить наедине и речи быть не могло. Но Макс уже достаточно долго ждал. К тому же, судя по всему, Маргарита не знала о его с Валентином отношениях, либо была хорошей актрисой и не подавала виду, что что-то знает. Или же она сама участница заговора, счастливая соперница и ночами весело смеется вместе со своим любовником над его, Макса, мучениями. Многое нужно было прояснить, и поэтому Макс предложил выйти на улицу.
Была глухая ночь. Они уселись на автобусной остановке, где в такое время легче встретить привидение, чем автобус.
И тогда он выложил ей все, искоса поглядывая на ее лицо, оранжевое в свете назойливого фонаря. Она слушала не перебивая, бесстрастно глядя на пустую дорогу и дым ее сигареты не выдавал дрожи в руке, как свет фонаря скрывал возможно, проступившую бледность. Макс сбивался, но продолжал говорить, расцвечивая свою любовь все новыми подробностями, которых никогда не было. Он хотел теперь одного – любой реакции, вскрика, слез. Он хотел видеть ее заломившей руки, он хотел видеть ее уход, бегство. Он жаждал ее страданий, словно изголодавшийся вампир. Словно только так он мог утишить свою боль. Боль... Чушь...
Давным-давно боль уступила место ненависти, и эта концентрированная ненависть сейчас прорывалась потоком слов. И вдруг он понял, что она просто ждет, когда он замолчит и нетерпеливо постукивает пальцем по скамейке. Макс поперхнулся и остановился на полуслове.
Она заговорила. Макс услышал ее монотонный (как она сама говорила “евангелистский”) голос, глухой и почти лишенный оттенков. Быстрое движение пальцев, словно смела с лица паутину, и все, больше никаких признаков нервозности. А потом лишь странно построенные фразы, скачки мысли, и все превратилось в логическую цепь умозаключений.
– Раз он врал нам обоим, – говорила Маргарита, – значит, он боялся. Давай предположим – чего может бояться такой человек как Валентин? Оказаться в смешном положении? Быть брошенным? Мне, кажется, что больше всего он боится выпустить ситуацию из рук, потому что знает – у него не хватит чутья потом в ней разобраться. Он не может предположить твою реакцию, а равно и мою, в том случае, если все откроется. Обманывая, гораздо легче вертеть нами, как марионетками. И если у него хватает терпения так виртуозно и усиленно врать нам обоим, и при этом не запутываться, значит, мы оба имеем для него определенную ценность.