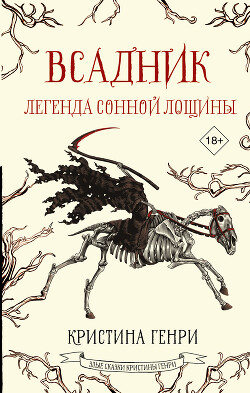Усаживаю Катрину на стул, наливаю в ее миску немного супа – немного, поскольку знаю, что больше она не съест. Ставлю рядом тарелку с нарезанным хлебом, блюдце с маслом и вспоминаю, как Лотти намазывала для меня толстенные ломти, даже когда ей это запрещали.
Сажусь напротив Катрины с полной тарелкой супа и начинаю есть. Мое тело голодно, но я уже не получаю того удовольствия от еды, как до смерти Брома. Теперь еда для меня – всего лишь топливо, помогающее продержаться очередной день. А еще я знаю, что, если буду есть, Катрина станет подражать мне, по крайней мере какое-то время. Глубоко укоренившиеся в ней правила хорошего тона не допускают, чтобы кто-то – в данном случае я – ел в одиночестве.
И действительно, она начинает зачерпывать ложкой суп и отправлять его в рот сразу после того, как я приступаю к трапезе, – как птенец, копирующий свою мать.
Теперь я ей как родитель. Я забочусь о ней, а не наоборот.
Я мажу маслом ломтик хлеба для Катрины и протягиваю ей. Она откусывает кусочек и медленно жует. Каждый глоток – маленькая победа, принятая пища – еще один день ее жизни.
За едой мы не разговариваем. Я доедаю суп, два куска хлеба и стараюсь не вздохнуть при виде Катрины, оставившей в тарелке больше половины, хотя с хлебом она справилась. Бабушка сидит на своем стуле, как послушный ребенок, с отсутствующим видом глядя куда-то в пространство, ожидая, когда я дам ей следующее задание.
Я убираю и мо`ю миски, заворачиваю хлеб в чистую тряпицу, чтобы он не зачерствел за ночь. Жаль, что у нас нет десерта, тогда можно было бы убедить Катрину поесть еще немного. Меня вдруг охватывает страшная тоска по фруктовым пирогам Лотти. Она показывала мне, как делать хрустящую корочку, и мне доводилось готовить мясные пироги, а вот фруктовые – никогда.
А зачем? Здесь некому их есть, кроме тебя, и фрукты только испортятся, скиснут.
Катрина позволяет мне отвести ее обратно в гостиную, и я снова усаживаю ее в кресло. Она тут же поворачивается к окну, и я беспомощно смотрю на нее, желая сделать хоть что-нибудь, чтобы удержать ее в настоящем, удержать рядом со мной.
– Может, сыграем в вист?
Вообще-то игра рассчитана на четверых, но мы играем вдвоем, для чего правила пришлось несколько изменить. Мы не играли в карты очень давно, а Катрина всегда любила вист. Она была азартна, любила побеждать, и когда они с Бромом играли в паре, их никто не мог одолеть.
– Нет, – выдыхает она так, словно одно короткое слово потребовало от нее слишком много усилий.
– Я могу тебе почитать. – Во мне нарастает отчаяние. Нужно что-то сделать, что угодно, лишь бы она перестала глядеть в окно. – Стихи? Я могу почитать тебе стихи.
– Нет, – повторяет она.
Глаза ее снова мутнеют, словно затягиваются облаками. Как же я ненавижу этот ее безучастный вид.
Катрина смотрит в окно, а я смотрю на нее, чувствуя, что между нами пропасть, и не понимая, как перекинуть через эту пропасть мост.
Смеркается, и я зажигаю свечи, но Катрина не двигается, не дает даже понять, знает ли, что я здесь.
В лес я больше не хожу. После Брома, и Крейна, и Дидерика Смита – просто не могу заставить себя бродить под деревьями. Однако куда важнее то, что леса` – это его место, место Всадника, а я не хочу, никогда больше не хочу его видеть.
Не хочу его видеть – и в то же время все во мне тоскует по нем, жаждет понять, что же нас все-таки связывает.
Ненавижу его. Ненавижу, потому что он не пришел за мной, когда мог бы, не помог мне спастись от Крейна. Он должен был защищать меня, как защищал всегда. Но он не явился, не защитил, и потому Брому пришлось отправиться в лес в тот день. И потому, что дед отправился в лес в тот день, мы потеряли его навсегда.
Но я продолжаю вспоминать о той волшебной ночи, когда мы скакали со Всадником, слившись с ветром, с ночью, со звездами.
Иногда я слышу его голос, ночью, когда лежу без сна, его далекий-далекий голос, шепчущий мое имя. Но никогда не следую за этим голосом, никогда не ищу его источник. Никогда я не пойду к Всаднику. Предпочитаю вечное одиночество.
Я твержу это себе каждый день, а потом твержу, что это не ложь.
Пятнадцать
Н
а следующий день мне приходится снова ехать в город за кое-какими припасами. Сразу после завтрака Катрина устраивается в гостиной. Она смотрит в окно. Даже не замечает, когда я ухожу. Я не собираюсь задерживаться, но чувствую укол беспокойства.
Возможно, мне следует попросить кого-нибудь приходить и сидеть с ней в мое отсутствие. Не следует ей оставаться одной.
Потом я отгоняю эту мысль. Катрина, конечно, не в порядке, ни к чему себя обманывать, но она никогда не делала ничего потенциально опасного для себя. Она просто сидит и смотрит в окно. В этот час или два, пока меня не будет, ей ничего не грозит.
Едим мы с Катриной немного, но продукты нам все равно нужны, тем более что ферма больше ничем нас не одаривает. Я не утруждаюсь даже ухаживать за огородом, потому что богатый урожай помидоров или кабачков просто сгниет, дожидаясь, когда мы его съедим, а везти излишек в город на продажу у меня нет никакого желания. Мне кажется это самым унизительным, абсолютно недопустимым ударом по наследию Брома. Бром никогда не опустился бы до продажи на базаре нескольких жалких овощей.
«Но ты-то спокойно покупаешь еду на базаре», – думаю я, выбирая картошку. Вокруг суетятся люди, кто-то окликает меня, чтобы поздороваться, но большинство составляют незнакомцы. Сонная Лощина – уже не тот уголок из моего детства, который казался застывшим под стеклом, где все знали друг друга – а зачастую и состояли друг с другом в родстве. Лощина разрастается вместе со страной, становясь современной – и неузнаваемой.
Можно было бы, как обычно, заглянуть к Сандеру, но мне не хочется повторения вчерашнего неприятного разговора. Сандер – мой друг, мой единственный друг, и я хочу, чтобы он остался им.
Складываю покупки в седельные сумки и беру поводья Захта, чтобы довести жеребца до окраины деревни. Вокруг слишком много людей, чтобы ехать верхом, пускай даже и шагом, хотя Захт не представляет никакой угрозы для прохожих. Мой конь совсем не похож на своих отца и деда. Нет у него ни огня в глазах, ни дикой натуры. Он умен, как Донар, и, возможно, быстр, как Черт, но я никогда не скачу на нем так, как скакал Бром. Мне нравится его кроткий нрав.
Осторожно пробираюсь сквозь толпу, время от времени вскидывая руку в приветствии, когда слышу свое имя. Проходя мимо того места, где когда-то стояла хижина Шулера де Яагера, ловлю слабый запах тухлого мяса, крови и серного дыма, как будто кто-то только что чиркнул спичкой. Сочетание столь отвратительное и одновременно настолько знакомое, что я останавливаюсь, вспоминая тень, возникшую передо мной в лесу, и этот странный запах, ударивший мне в лицо.
«Крейн», – думаю я. Но Крейна здесь нет, да его и не может быть тут, в Сонной Лощине. Бром убил его, и от него ничего не осталось. Он растаял, сраженный Бромом Бонсом и в жизни, и в смерти.
Кроме того, какие бы тени ни властвовали над Сонной Лощиной, они рассеялись, когда умер Бром и исчез Шулер де Яагер. Теперь лес рассекала дорога. Она шла через те места, куда десять лет назад никто и ступать не осмеливался. Люди перестали бояться леса и уже не рассказывают сказки о призраках, волшебстве и Всадниках без голов.
Хотя, по слухам, есть еще несколько темных неисследованных углов, избегаемых охотниками. Рассказчики во всеуслышание утверждают: это потому, что в тех чащобах и зверей-то нет. Но, опрокинув несколько стаканчиков эля и притушив лампы, они шепчут, что видели тень, или слышали голос из ниоткуда, или почувствовали холодное прикосновение к шее, и собравшиеся вокруг слушатели кивают и говорят, мол, и с ними случалось нечто похожее.
Но я же не в лесу. Не в каком-то глухом углу, где дремлют остатки старого волшебства очарованной Сонной Лощины. Это всего лишь пустой участок земли под ясным голубым небом, в котором сияет солнце, вокруг масса людей, и Крейна тут нет и не может быть, потому что Крейн мертв.