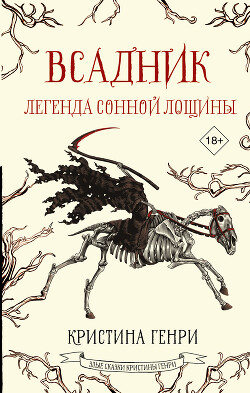И дети скажут, что это всего лишь сказка, что нет никакого Всадника, и Крейна нет, и Катрины, и Брома, но все равно будут натягивать одеяла до самых подбородков, прислушиваясь, не застучат ли в ночи копыта.
Моя нога не ступала в лес десять лет, и, казалось бы, ощущения должны быть совсем другими, но под деревьями мною сразу овладевает чувство, которое никак нельзя назвать беспокойством. Во мне расцветает твердое знание, что я принадлежу этому месту. Принадлежу этим лесам, этому воздуху, этим деревьям. Я – дитя природы, а не деревни. Мое сердце всегда жило здесь.
«Сандер был прав, – с грустью думаю я. – Сандер знал это, а я – нет».
Некоторое время я иду спокойно, легким широким шагом, наслаждаясь близостью таких знакомых деревьев и ощущением того, что они приветствуют меня после долгого отсутствия. Иду я не по дороге, которая все равно не привела бы меня туда, куда мне нужно. В просветах между ветвей мигают звезды, и я слышу, как вокруг суетятся ночные создания – кто-то шуршит в кустах, где-то далеко ухает сова, а в какой-то момент, слишком близко ко мне, сопит медведь, вышедший на последнюю перед зимней спячкой охоту.
Потом деревья подступают ближе и, сгорбившись, наблюдают за мной с едва сдерживаемой злобой. Тени обретают плотность, становятся словно бы осязаемыми, принимают формы, видимые лишь краем глаза. Шебуршания зверьков уже не слышно, ведь лесная мелочь знает, что сюда лучше не соваться, поскольку здесь обитает кое-кто покрупнее – с зубами, которые кусают, и когтями, которые хватают.
Шаги мои замедляются, и я пытаюсь не обращать внимания на тягостную тревогу, растущую в груди, на то, как сжимается горло, не давая толком вдохнуть, на ощущение того, что кто-то стоит за спиной, ожидая, когда я обернусь.
– Бен.
Я выхватываю нож и резко поворачиваюсь на голос, идущий из тьмы слева. И чуть не роняю клинок, увидев, кто заговорил со мной.
Во мраке застыл Кристоффель ван ден Берг, неправдоподобно целый, не повзрослевший ни на день после своей смерти.
«Он не настоящий, – говорю я себе. – Он всего лишь плод моего воображения, не призрак, но иллюзия».
– Что ты делаешь тут в лесу, Бен? – спрашивает Кристоффель. Мягкий голубоватый свет, фосфорическое сияние исходит от него. – Ты же знаешь, детям нельзя сходить с тропы. Это опасно. Сойдешь – и с тобой случится что-то плохое.
Он делает шаг ко мне, и я пячусь, выставив перед собой нож:
– Не приближайся.
– Я не желаю тебе зла. Хотя я никогда тебе не нравился, правда, Бен? Какая-то часть тебя всегда считала, будто я получил то, что заслужил, когда тот монстр нашел меня.
– Нет. У меня никогда не было таких мыслей. Мне было жаль тебя.
Его губы кривятся в усмешке.
– Да, тебе было жаль меня. Я такой бедный, что все добренькие леди Лощины таскали нам корзинки с едой, ведь мой отец пропивал все наши деньги. Ты жила в огромном доме, где все смеялись и любили друг друга, а я жил в крохотной хижине, даже без свечей, слушая, как рыдает мать, как орет отец, как гуляют по ее телу его кулаки. Да, вам было жаль меня, всем славным жителям Сонной Лощины, но никто не помог. Никто не забрал меня.
– Никто не мог забрать тебя от твоих родителей.
– Они не были родителями, – говорит Кристоффель и, кажется, немного вырастает, раздуваясь от гнева. – Родители – это те, кто заботится о своих детях. Мой отец заботился только о себе и о том, что можно найти на дне бутылки, а мать была слишком слаба, чтобы уйти от него, даже ради своего спасения.
– Мне жаль, – повторяю я, и звучит это ужасно неубедительно, но я не знаю, что еще сказать или сделать.
Я не могу ничего исправить. Не могу вернуться в прошлое и сделать его родителей лучше, не могу убедить кого-нибудь в городке – никчемного Сэма Беккера например, – забрать Кристоффеля и поместить его в более благополучный дом. Не могу помешать ему пойти в лес в тот день, когда он погиб, не могу не дать Крейну убить его.
– «Жаль». Это все, что у тебя есть для меня? Вся милостыня, которую швыряет мне великий Бен ван Брунт, всегда считавший себя лучше прочих?
– Это неправда.
Но это была правда. Конечно, мне казалось само собой разумеющимся, что я лучше других. Я же, как-никак, ван Брунт, потомок великолепного Брома Бонса. Кто не считал бы себя на голову выше остальных, если бы происходил из такой семьи? Но я уже не ребенок, глупый и заносчивый. Вся моя спесь исчезла в тот день, когда умер Бром.
Лоб мой покрывается по`том, капли катятся по виску. Я не знаю, что делать. Попытаться бежать? Погонится ли за мной Кристоффель? Что он может мне сделать? Или я – ему? Может, мне просто притвориться, что его вовсе здесь нет, и он исчезнет?
– Не ври, – говорит Кристоффель. – Ты думала, что ты лучше меня. Ты могла помочь мне, вместо того чтобы делать вид, будто меня нет. Ты могла что-нибудь сделать. Например, сказать великому Брому, и он, может, забрал бы меня, и я жил бы с тобой, в вашем большом доме.
Я вспоминаю маленького хулигана Кристоффеля, ребенка подлого и гадкого, и внутри у меня все переворачивается, когда я представляю его у нас дома.
Все мои чувства, должно быть, написаны на моем лице, потому что Кристоффель, кривясь от ярости, тычет в меня пальцем:
– Видишь? Ты думаешь, что я хуже тебя, ниже тебя, что мне там не место. Но есть кое-что, чего ты не знаешь, Бен ван Брунт. Здесь, в лесу, мы все одинаковые. Все приходим к одному концу.
Лицо его меняется. Но нет, это не лицо. Это его голова кренится, кренится в сторону, наклоняется под безумным, невозможным углом, потому что поперек шеи все шире и шире открывается огромная рана. Кровь пузырится на его губах, течет из носа, струится из глаз алыми слезами.
– Ты в точности как я, Бен ван Брунт. В конце этого пути ждет лишь одна участь.
Он смеется, хохочет дико и страшно. Таким звукам не место в этом мире. Потом смех резко обрывается. Он тянется ко мне, и я вижу, что у него нет кистей – руки оканчиваются кровоточащими культями.
– Не бросай меня здесь одного, – говорит он, и голова его покачивается на тонкой полоске кожи. – Не бросай. Я так боюсь.
Я бегу, бегу без оглядки, не выбирая дороги, бегу от боли одиночества в его детском голосе, бегу от вины, твердящей: можно было что-то для него сделать, когда он был жив, и мой собственный юный возраст в те времена – отнюдь не оправдание.
Через некоторое время, задыхаясь, я замедляю шаг, совершенно не представляя, где я, не зная, далеко ли меня занесло. Оглядываюсь, опасаясь, что Кристоффель последовал за мной, но позади только темнота.
«Всадник, – думаю я. – Нельзя отвлекаться на лесных призраков. Мне нужно найти Всадника. Я здесь ради него».
Нож Брома зажат в моей правой руке, и я не убираю его. С ножом в кулаке я чувствую себя лучше, пускай даже он и не защитит меня от призрака.
– Маленькая ведьма.
И снова знакомый голос шипит на меня из темноты, на этот раз справа. Я оборачиваюсь, уже зная, кого увижу.
Дидерик Смит смотрит на меня, глаза его полны ненависти. Он тоже цел, как и Кристоффель, и тоже окружен бледным свечением.
– Проклятая маленькая ведьма. Ты убила моего Юстуса, а потом ты убила меня.
– Нет, – говорю я. – Я не имею никакого отношения к смерти Юстуса.
– Но меня ты убила, не так ли? Ни секунды не колеблясь. Не думая ни о ком, кроме себя. Схватила камень и била меня, била, пока не вышибла из меня дух.
– Ты причинил мне боль. – С тревогой слышу в своем голосе мольбу, желание объяснить, объяснить так, чтобы он понял. – Ты меня похитил. И это ты собирался меня убить.
Слова звучат жалко, я словно защищаюсь. Он прищуривается. Руки его сжимаются в те самые страшные кулаки, которые вреза`лись в мое лицо, разбивая его в кровь.
– Ты заслуживала всего, что получила. Думала, погубишь моего Юстуса и тебе сойдет это с рук, потому что ты ван Брунт? Вы всегда разыгрывали из себя больших шишек, и ты, и твои родители, а больше всех – Бром с Катриной. Всегда они вели себя так, словно деньги позволяли им делать все, что им угодно, притворялись великодушными землевладельцами, совершающими благочестивые деяния и заботящимися о деревне. Но я-то знаю. Знаю, что на самом деле им было плевать, что они только и хотели чувствовать свою важность. И ты вела себя с моим Юстусом точно так же, обращалась с ним как с грязью на своих подошвах.