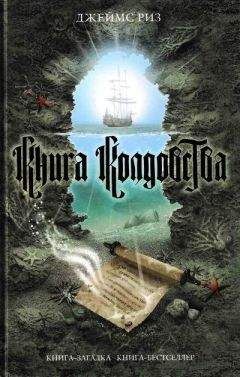Теперь позвольте мне отойти от этой темы, больше пригодной для эпилога, и вернуться к одному из наших разговоров с Бру.
— Расскажи мне о Ребусе, — потребовала я как-то раз на рассвете, вскоре после моего вселения в дом алхимика.
Я только что возвратилась из городской студии и встретила алхимика во дворе. (Бру знал о моем убежище, я уверена.) Книги, выбранные прошлой ночью и теперь лежавшие в полотняном мешке, обманули мои ожидания. Они были очень невнятны — каждая новая книга темнее предыдущей.
— Я читаю и читаю, — пожаловалась я, — до боли в глазах, и все равно… ничего! Так объясни мне наконец, что такое герметический андрогин, как ты меня называешь?
Бру и вправду предпочитал называть меня Ребусом, если (что случалось крайне редко) нужно было как-то меня назвать. Однако К. не заговаривал со мной об этом с той самой ночи, когда он и белый ручной удав убедили меня остаться в его доме. После того странного предложения мой наставник, несмотря на всю свою ученость, запутывал меня все больше и больше. Так же действовали и книги из его библиотеки. Сначала я приписывала это собственной бестолковости, хотя прежде всегда понимала, о чем говорит преподаватель или что написано в книге. От огорчения я удвоила усилия и стала перечитывать тексты дважды. Теперь-то я, разумеется, знаю, что Бру именно этого и хотел: запутать меня.
В то утро, услышав мой прямой вопрос, он буквально впился в меня глазами. Я ожидала какой-нибудь гадости: либо того, что его рот растянется в недоброй золотой усмешке, либо взрыва презрительного смеха, либо чего-то еще столь же обескураживающего. Но Бру был доволен: ему понравилось, что я, погрузившись в изучение его текстов, почувствовала смятение, разгневалась и ужаснулась всей этой казуистике и словесным играм. Конечно, меня совершенно не удовлетворило, когда Бру ответил… нет, просто сказал, потому что ответ на заданный вопрос я узнала очень нескоро, — а сказал он вот что:
— Nec scire fas est omnia.
— О, пожалуйста, — взмолилась я, слишком уставшая, чтобы вести беседу на латыни, — говорите на каком-нибудь живом языке!
Бру снизошел к моей просьбе и пояснил:
— Это Гораций.
— Хорошо, Гораций, — согласилась я. — И что он сказал?
— Он сказал: «Нам не велено знать все».
— Не велено нам? Кому? Надеюсь, не мне?
Бру ничего не ответил, и я продолжила:
— Могу ли я, по крайней мере, узнать, почему и зачем я здесь? Почему вы трое, — (я имела в виду Бру, Герцогиню и Себастьяну д'Азур), — составили заговор, чтобы меня сюда заманить?
Что касается заговора, я оказалась права, только подруг своих обвинила зря — они не догадывались, что своими действиями приносят меня в жертву.
Возможно, Бру меня пожалел (во всяком случае, тогда у меня сложилось такое впечатление, хотя впоследствии оно сильно переменилось). Или счел, что после недель и даже месяцев работы с книгами я была достаточно подготовлена, чтобы открыть мне кое-что еще. En tout cas,[102] тем утром он провел меня к себе на assoltaire, и там произошло вот что.
Мы прошли в самый большой из шатров, как раз позади того, где мы сидели в первый день. В большом я еще не бывала; не то чтобы это запрещалось, но Бру никогда не приглашал меня сюда. Я сразу заметила множество принадлежностей, необходимых для ученых занятий, но прежде обвела взглядом закоулки, высматривая Уробороса. Как я и думала, удав лежал рядом с черной миской, наполненной молоком, и это молоко поблескивало, ибо в нем плавали золотые хлопья. Меня удивило не столько золото, сколько само молоко. Где алхимик его брал? Квевердо Бру почти не выходил из дома (во всяком случае, я не замечала этого), а продукты и все необходимое для жизни приносила ему я. Кстати, я никогда не видела, чтобы Бру ел. Ни разу. Вполне возможно, что содержимое змеиной миски было вовсе не обычным молоком, но чем-то особенным, что употреблял и сам Бру в своем вознесшемся над Гаваной sanctum sanctorum,[103] куда я теперь попала.
Я сразу же заметила, что у шатра двойное назначение: с одной стороны, это была лаборатория, но также и своего рода скиния. Ибо в углу К. устроил себе молельню, поместив там резной алтарь из драгоценного дерева. Молился ли здесь Бру? И если да, то кому? Или чему? Впрочем, верования алхимика меня не слишком-то занимали. Он интересовал меня не как служитель своего культа, но как практик. А потому я, мельком взглянув на алтарь, обратила все внимание на другое — меня волновали практические аспекты его работы.
С первого взгляда шатер напоминал кузню или хибару гончара. В центре стоял очаг — так называемый атанор, от греческого «атанатос», то есть «бессмертный», — а в нем заботливо поддерживался алхимический огонь, которому нельзя дать умереть. Тепло его зримо поднималось к отверстию наверху, своего рода сфинктеру, если говорить прозаическим языком, обложенному по кругу листами жести, чтобы сбившаяся с пути искра не спалила шатер. Атанор, а не молельня, был центром этого помещения, а вокруг были разложены инструменты, служащие огню, а не алтарю. У атанора имелись многочисленные «руки», отставленные в разные стороны и похожие на приподнятые лапки — так от щитков панциря таракана, упавшего на спину, тянутся его ножки. На концах этих подвижных «лап», выкованных из железа, крепились зажимы, напоминавшие кисти рук. Их назначение заключалось в том, чтобы «держать» сосуды при нагревании. Этих сосудов было невероятное множество, любого мыслимого размера и любой формы: перегонные кубы, реторты, тигли, колбы, лабораторные стаканы, именуемые мензурками, чашки с носиками для выпаривания жидкостей, пробирки, не говоря уж о флягах, склянках, флаконах и оплетенных бутылях с узким горлом. Там имелись и стеклянные сосуды, и фарфоровые, а также груды кубков, лоханок и плошек. Иные, накренясь, стояли на полках и казались высеченными из того же дерева, что и алтарь. Однако сосуды были сделаны грубо, а алтарь, несомненно, стал шедевром неведомого резчика, положившего жизнь на его изготовление. Он был почти целиком покрыт барельефами, идущими ряд за рядом, и сюжеты детальнейших изображений складывались в целые повести. У длинного рабочего стола стояла хитрая конструкция, выкованная из железа и вмещавшая в себя целую коллекцию пестиков: с одного края я насчитала около двадцати, расположенных по размерам — от крошечных до огромных, явно высеченных из цельных базальтовых глыб.
На столах поменьше я увидела весы, компасы, секстанты, лопаточки, совочки, сита и щипцы на манер каминных… Щипцы были повсюду. Их обмотанные материей рукоятки красноречиво свидетельствовали о том, что огонь в этом шатре был главной стихией. Щипцы словно говорили: не трогай ничего, а то загорится! Имелись тут и всевозможные приспособления для измерения времени, напольные и свисавшие с поперечин железного каркаса шатра. Часы с квадратными циферблатами, часы с круглыми циферблатами, но стрелки на всех замерли, как и у тех, что стояли в библиотеке. Так что, возможно, библиотечные часы вовсе не были остановлены в силу древнего обычая гостеприимства, как я полагала прежде. Кстати, в шатре имелись и песочные часы, из которых был высыпан песок.