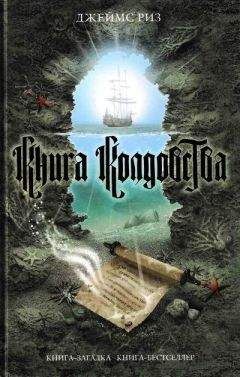Квевердо Бру бесшумно приблизился ко мне сзади, не отрывая глаз от одного из циферблатов с остановившимися стрелками. Он подошел слишком близко, слишком тихо и слишком быстро, поэтому мне показалось, что его последующие слова были не столько произнесены, сколько «вложены мне в уши».
— Время — деспот, — произнес К., а дальше заговорил взволнованным голосом. — Но если мы будем держаться вместе, — тут алхимик перешел на едва слышный шепот, — то сумеем ускользнуть из его тенет, сбросим его со счетов. Мы можем… вообще избавиться от него.
Я слышала слова Бру, но смысл их от меня ускользал. Конечно же, я внимала речам алхимика, не отрывая глаз от его обрамленного капюшоном лица, и при этом бочком продвигалась к выходу — осторожно, как только могла. Я уже и без того прочла слишком много непонятного. Поэтому я демонстративно извлекла из ридикюля часы (я носила их на цепочке, пристегнутой к карману жилетки, когда наряжалась мужчиной) и проговорила:
— К счастью, у меня при себе собственные часы, сеньор. И сейчас они говорят, что настало время.
— Да? — спросил Бру с хитрым и злобным взглядом. — Настало время для чего?
Не обращая внимания на его слова, я беспечно приоткрыла крышку часов и обнаружила, что циферблат «онемел». Вот именно, онемел, и не меньше меня самой, потому что я увидела, как стрелки замедлили ход и замерли на половине шестого, как сложенные в молитве ладони, соприкасающиеся кончиками пальцев. Удивительнее всего было то, что утром я узнавала время по этим часам, когда выходила из своей студии: мне вдруг захотелось точно узнать, когда взошло солнце. И вот, пожалуйста: часы не шли, как и все прочие в шатре Бру, словно здесь остановилось само время.
— Ну? — продолжал Бру. — И какое время показывают твои часы, мой Ребус?
Улыбка преобразила его черты. Порой так бывает с людьми, но эта перемена, произошедшая на моих глазах, была пугающей: она вдруг обнажила все зло, накопившееся под маской, и обнаружила истинное лицо алхимика.
— Время уходить, — ответила я.
И осуществила свое намерение, спустившись по лестнице с assoltaire вниз, хотя раздавшийся позади смех Бру преследовал меня. Он звенел над Гаваной, заглушая утренние звуки просыпающегося города.
Вернувшись в свою угрюмую комнату — где не было ничего, кроме койки да масляной лампы, и единственным утешением оставалась мысль, что здесь до меня спала Герцогиня, — я завела часы, но тщетно. Время-деспот наложило свою мертвящую властную руку и на это место. И мне не оставалось ничего иного, как… сбросить его со счетов. Ведь Бру сказал, что я могу это сделать.
В другой раз я пошла в лабораторию к Бру лишь для того, чтобы окончательно выяснить мою дальнейшую судьбу и торжественно ее узаконить, как бы скрепить печатью. Я спросила, могу ли я провести в его доме ближайшие полгода. Затем совершила еще одну ошибку, сообщив, что намереваюсь дождаться возвращения Каликсто и все еще рассчитываю на приезд Себастьяны.
— Мудро. — Вот все, что он изрек, когда я поведала о своих планах и спросила (за что никогда себя не прощу), можно ли мне остаться в его доме. — Воистину мудро.
На сей раз я не имела желания задерживаться в лаборатории надолго, а тем более навсегда, ибо в ней было жарко, как в Гадесе.[104] Бру постоянно поддерживал огонь в атаноре. Похоже, алхимик и вправду никогда отсюда не уходил. Наверное, он спал тут же, на крыше, в одной из палаток меньшего размера. Но зачем ему такой большой дом? Я никак не могла этого понять. Большинством комнат никто никогда не пользовался — во всяком случае, создавалось такое впечатление, — за исключением библиотеки да моих покоев над ней, где не было почти никакой мебели и никаких вещей. Правда, имелся в наличии зверинец, ютившийся где-то на задворках: павлины во дворе, другие птицы всевозможных пород, гнездившиеся среди темных коричневатых лоз, густо оплетавших стены, и тому подобные твари. Я никогда не углублялась в эти «авгиевы конюшни» и предпочитала держаться подальше от них после захода солнца: было жутко видеть светящихся тварей, парящих чуть ниже луны, сгрудившихся в углу двора либо затаившихся между белеющими в ночи кустами роз и кактусами. Нет, лучше уж проводить время в залитой ярким светом «Лa Фелисидад» или в моей студии. Так что я вынуждена была выносить вид этих пернатых тварей, только когда заходила в дом Бру или выходила из него. Я смотрела на них, как на некое созвездие, опустившееся слишком низко.
Именно при втором посещении лаборатории я подметила за алхимиком весьма странную привычку: когда он думал, что его никто не видит (а я, стоя на верхней перекладине приставной лестницы, могла наблюдать за всем происходящим в его шатре, ибо полотняные края были слегка приподняты), он усердно облизывал пальцы левой руки, то и дело опуская их все разом в черную чашу, которую держал в правой ладони, а затем снова совал в рот, словно зачерпывал что-то вроде chantilly[105] или какого-то подобного угощения. Хотя ничего такого в ней, разумеется, не было.
Как вы можете догадаться, я следила за ним достаточно долго. Наконец по изменившемуся наклону капюшона я догадалась, что алхимик меня заметил. После чего вновь обмакнул пальцы в чашку и опять облизал. Когда я подошла ближе, он поманил меня все теми же пальцами, словно испачканными в солнечном свете. Я подошла и увидела, что черная чаша до краев наполнена полужидкими хлопьями золота. Да, именно так: Квевердо Бру питался золотом, и это стало для него привычным, как для кого-то другого — грызть орехи, курить сигару или пить виски. На мой вопрос, что дает организму такое питание, Бру ответил:
— Совершенство. Вечное совершенство.
До встречи с ним я считала совершенство благом, хоть и недостижимым. Чем-то вроде благочестия. Впрочем, я так думала раньше, пока не распрощалась со всеми ловушками религиозности. Но теперь, после знакомства с Бру, совершенство алхимического пошиба стало казаться мне чем-то… пережженным. Бру занимался только одним делом: он жег, жег и жег. Конечно, его единомышленники назвали бы сей процесс не пережиганием, а цинерацией либо каким-то еще возвышенным словом (стоящим на краю английского языка, если не за гранью оного, равно как и любого другого наречия, живого или мертвого). У них, знаете ли, припасено много таких словечек, звонких, как монеты, для всех процессов развития материи, причем алхимики полагают, будто материя проходит эти стадии исключительно для того, чтобы приблизиться к совершенству. Вот они, эти процессы: путрефакция,[106] коагуляция,[107] кальцинирование,[108] фиксация,[109] дигестирование,[110] дистилляция,[111] сублимация,[112] мультипликация,[113] мортификация,[114] конъюнкция,[115] диссолюция,[116] коррозия,[117] игниция,[118] преципитация,[119] ликвефакция,[120] экзальтация,[121] пурификация[122] и, наконец, перфекция.[123] Все они подразделяются на четыре стадии, которые — по системе, предложенной самим великим Гераклитом, — соотносятся с определенными цветами. Вот эти стадии: нигредо (черный цвет), альбедо (белый), цитринитас (желтый) и рубедо (красный).