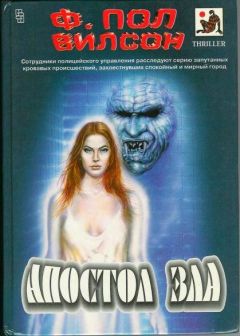— Сержант, мне нужно…
И тут он увидел, кто был на носилках. Это был гнусный извращенный сукин сын, изувечивший Дэнни.
Герб Лом.
Ярость взорвалась в нем ледяным черным пламенем, обжигая его, пожирая его. Он полностью потерял контроль над собой, утратил всякие соображения о контроле. Билл хотел только добраться до Лома. Он прыгнул вперед.
— Ты, ублюдок…
Он слышал крики, крики испуга и предостережения, но они с таким же успехом могли бы нестись с Луны. Коларчик, Аугустино, двое мужчин с ним — все исчезло из поля зрения Билла. Остались только сам Билл, коридор и Лом. И Билл точно знал, что собирается сделать: сдернуть Лома с носилок, поставить его на ноги и размазать о ближайшую — стену; а когда он пробьет эту стену, он швырнет его через коридор на другую, противоположную, и будет делать это снова и снова, пока ничего не останется ни от стен, ни от Герба Лома, кто бы ни рухнул первым. В своем роде это была прекрасная мысль.
Скрючив пальцы, он отшвырнул руки, которые пытались удержать его, и обрушился на Лома, целясь в центр блекло-зеленого больничного халата. Его кулаки ударили Лома в грудь…
…и не встретили сопротивления.
С тошнотворным треском грудная клетка Лома подалась, словно мягкий пластик, и кулаки Билла погрузились в нее по запястья.
И, милосердный Боже, там все было холодное. Значительно холодней льда… и пустота.
Билл выдернул руки и стал пятиться, пока не наткнулся на стену, где и остановился, глядя на грудь Герба Лома, на вмятину в больничном халате, провалившуюся глубоко внутрь. Он оглянулся на сержанта Аугустино и двух мужчин с ним. Они тоже смотрели на грудь Лома.
— Боже мой! — сказал Билл. Руки у него онемели и до сих пор ныли от холода.
Коларчик застыл позади и, раскрыв рот и тяжело дыша, глядел на носилки.
— Отец! Что вы сделали!
И тут тело Лома задрожало. Сначала мелкой дрожью как будто его бил озноб. Приступы дрожи не ослабевали, они постепенно становились заметней, явственнее усиливались, пока все тело не забилось в спазмах, в тряске, в конвульсиях столь жестоких, что загрохотали носилки.
А потом Лом стал разваливаться.
Билл сперва обратил внимание на грудь. Вмятина на больничном халате начала расширяться, и все больше зеленой ткани проваливалось в грудную клетку, словно особняки Флориды в гигантский провал во время землетрясения. Потом остальные части тела стали проваливаться под халатом — живот, ноги, руки. Казалось, они плавятся и тают.
Боже милостивый, они действительно плавились. Густая коричневая жидкость стала сочиться из-под халата и капать с носилок. Она испарялась в воздухе больничных коридоров. Запах стоял ужасающий.
Отвернувшись в приступе тошноты, Билл увидел, как голова Лома тает, превращается в красновато-коричневую лужицу на подушке и стекает на пол.
Три дня в аду.
Бедный ребенок провел три дня после сочельника в нескончаемой агонии, корчась и вертясь в постели. Голосок пропал, но открытый рот, крепко зажмуренные глаза и белые перекошенные черты лица рассказывали обо всем, что он переживает.
Ренни не в силах был слушать этот рассказ. И, хотя появлялся в больнице часто, не мог заставить себя войти в палату больше чем раз в день или остаться там больше чем на пару секунд.
Но священник, Билл Райан, — отец Билл, как стал мысленно называть его Ренни, — пребывал возле мальчика неотлучно, сидел у постели как ангел-хранитель, держа его за руку, разговаривая, читая, произнося молитвы перед слушателем, который не слышал.
— Они говорят, он утратил разум, — сказал отец Билл Ренни и Нику утром четвертого дня.
Этот парень, Ник, которому шло к тридцати, невзрачный до чертиков, был каким-то ученым профессором из Колумбийского университета. Он приходил, уходил, околачивался возле священника, начиная с рождественской ночи. Ренни так понял, что этот профессор — тоже бывший сирота из Фрэнси. Приятно видеть, что ничейный ребенок вырос в ученую шишку. И, учитывая, что Фрэнси для них — общий дом, Ренни занес профессора на хороший счет.
Все трое пили кофе в комнате ожидания для родителей в педиатрическом отделении, где Дэнни отвели одну из немногих отдельных палат. Позднее утреннее солнце лилось в широкие высокие окна, отражалось, сверкая, в остатках рождественского снега на окружающих крышах, согревало комнату, пока жара стала чуть ли не удушающей.
— Неудивительно, — сказал Ник. — И вы тоже скоро утратите разум, если немного не отдохнете. Со мной все в порядке.
— Он прав, отец, — сказал Ренни. — Вы катитесь к нервному срыву со скоростью девяносто миль в час. Так нельзя.
Священник пожал плечами.
— Я всегда могу отоспаться. Но Дэнни… кто знает, сколько ему еще осталось…
Ренни прикинул, сколько еще осталось отцу Биллу, прежде чем он свалится. Выглядел он адски. Глаза наполовину ввалились, волосы дыбом, потому что каждую пару минут он запускает в них руки, и ему следовало бы побриться. Смахивает на запойного, удравшего из вытрезвителя.
И Ренни чувствовал себя как запойный. Он сам мало спал. Его словно конвейер затянул с самого сочельника, что очень не нравилось Джоан. Уже то плохо, что он пропустил рождественское утро, — спасибо, у них нет детей, иначе пришлось бы испить чашу до дна, — но Ренни не пошел также и на рождественский обед у жениных родителей. Не то чтобы он не любил жениных родителей — люди они славные, — просто детектив оказался полной задницей перед собственным департаментом. Подозреваемого в покушении на убийство доставили ему в Даунстейт, а через несколько часов в руках у него осталась лишь куча вонючего дерьма.
При воспоминании об этом у Ренни слегка свело желудок. В течение трех последних дней он без конца прокручивал в памяти сцену в коридоре, но никакие прокрутки не добавляли ни малейшего смысла и не объясняли причин происшедшего. В один момент у него был задержанный подозреваемый, а в следующий — только густая коричневая лужа. Слава Богу, что есть свидетели, иначе никто ему сроду бы не поверил. Черт побери, он сам был там и все видел и все равно сам себе не верит.
С кем бы Ренни ни говорил, он не мог добиться объяснений. Никто из врачей со всего Медицинского центра не видел смысла ни в картинках магнитного резонатора, ни в рентгеновских снимках грудной клетки, ни в том, что в конце концов произошло с телом Лома. Собственно говоря, они вроде бы начинали крутить хвостом. Не в силах найти объяснений, намекали на то, что у очевидцев помутился рассудок. Он слышал, как одна медицинская шишка бубнила, что, мол, хорошо, но, поскольку того, что, по их словам, произошло, явно произойти не могло, значит, их воспоминания об инциденте ложны. Как можно ждать от нас рационального объяснения, если исходные данные ошибочны и анекдотичны?