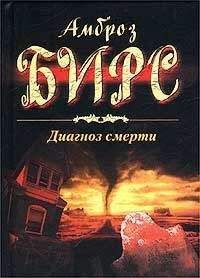Дампье закрыл окно, усадил меня и уселся сам.
Случай этот сам по себе не был особенно таинственным; тут подошло бы любое из доброй дюжины объяснений – хотя тогда ни одно не пришло мне в голову, – и все же произвел на меня странное впечатление. Возможно, из-за того, что друг мой слишком уж старался уверить меня, что ничего особенного не происходит. Он лишь доказал мне, что снаружи никого нет, но в этом-то и была вся интрига; а никакого объяснения он мне не предложил. И это начало раздражать меня.
– Мой добрый друг, – сказал я, подпустив в голос иронии, – я ни в коей мере не оспариваю твое право предоставлять кров такому числу призраков, какое отвечает вашим вкусам и понятиям о хорошей компании. Не мое это дело. Но сам я человек простой, целиком от мира сего, и дела мои простые, и потому привидения плохо согласуются с моими понятиями о телесном комфорте и душевном покое. Лучше я пойду в гостиницу, где все мои соседи пока пребывают во плоти.
Это была не самая учтивая речь, да и не самая дружеская, но Дампье не обратил внимания на мой выпад.
– Останься, пожалуйста, – сказал он. – Я очень благодарен тебе за то, что ты меня навестил. То, что ты услыхал сегодня вечером я уже слышал раньше… дважды. Теперь я знаю, что это не было обманом чувств. Это очень важно для меня… куда важнее, чем ты можешь себе представить. Запасись сигарой и толикой терпения, я все тебе раскажу.
Буря разыгралась всерьез, монотонный шум ливня мешался с завыванием ветра и треском сучьев. Было совсем уже поздно, но дружеская симпатия, да и любопытство тоже заставили меня остаться и выслушать рассказ Дампье. Слушал я внимательно и ни разу не прервал моего друга.
– Десять лет назад, – начал он, – я снимал первый этаж в одном из домов на Ринкон-хилл. Это на другом конце города, там все дома похожи один на другой. Когда-то этот район считался в Сан-Франциско фешенебельным, но когда я туда перебрался, он уже был близок к упадку. Это отчасти объяснялось незамысловатой архитектурой, уже не отвечающей ни потребностям, ни вкусам наших богатых граждан, а отчасти – неуемной активностью городских властей. Дом, в котором я жил, стоял в ряду таких же, причем фасады их выходили не на улицу, а в маленькие садики, отгороженные друг от друга невысокими коваными заборчиками. Садики с геометрической точностью делились пополам дорожками, ведущими от ворот у дверям. Однажды утром, выходя из дому, я увидел, как в соседний садик, что был слева от моего, вышла молодая девушка. Это был теплый день в июне, и она была одета во все белое. За плечами у нее висела широкополая соломенная шляпа, обильно украшенная цветами и лентами по моде того времени. Но я недолго любовался изящной простотой ее костюма, ибо никто не мог бы смотреть на ее лицо и думать о чем-то земном. Не бойся, я не оскверню его своим описанием, скажу лишь, что она была исключительно красива. Все прекрасное, что я видел прежде, все, что я мог бы вообразить, мечтая о воплощенной красоте, меркло перед этой живой картиной, созданной десницей Божественного Художника. Я был так очарован, что рука моя сама потянулась к шляпе; я обнажил перед нею голову, как истовый католик или фанатичный протестант – перед образом Пречистой Девы. Девушка же не выказала никакого неудовольствия; она посмотрела на меня своими чудесными глазами – у меня от этого взгляда дыхание занялось – и вошла в свою дверь. А я еще какое-то время стоял недвижно, держа в руке шляпу. Я понимал, что веду себя бестактно, но был так очарован этим чудесным виденьем, что упрекал себя далеко не так строго, как следовало бы. Потом я пошел своей дорогой, но сердце мое осталось с нею. Обычно я возвращался домой лишь поздним вечером, но в тот день я уже в полдень стоял в своем маленьком садике, делая вид, будто интересуюсь растущими там цветами, которых я прежде даже не замечал. Но надежды мои не сбылись: девушка так и не появилась.
Той ночью я почти не спал, и весь следующий день томился ожиданием, тщетным, надо сказать. Наступил еще один день, я бесцельно слонялся по окрестностям – и вдруг встретил ее. Конечно, я воздержался от безрассудств, и шляпа моя осталась на голове. Я даже не смел взглянуть на нее, разве что мельком, но сердце мое колотилось так, что его, наверное, за квартал было слышно. А когда она обратила ко мне свои огромные черные глаза, я вздрогнул и залился краской. Она явно узнала меня, но во взгляде ее не было ни вызова, ни кокетства.
Не буду докучать тебе подробностями; скажу лишь, что с тех пор встречал ее довольно часто, но ни разу не попытался заговорить с нею или каким-то образом привлечь ее внимание. Ты, наверное, не понимаешь причин такой вот сдержанности, которая, кстати, стоила мне нечеловеческих усилий. Да, я был влюблен, влюблен глубоко, отчаянно, но возможно ли перековать свой характер?
Я был, как ты знаешь, из тех, кого болваны называют аристократами. Другие же, еще большие болваны, гордятся, что их так называют. А девушка – со всей ее красотой, обаянием и изяществом – не принадлежала к моему кругу. Я узнал, как ее зовут, но сейчас считаю неуместным тревожить ее имя; и выяснил кое-что насчет ее семьи. Она была сиротой и находилась на попечении тетки – толстой пожилой женщины, которая держала меблированные комнаты. Тогда мои доходы были весьма скромны, да и сам я не был расположен к женитьбе – ведь для этого еще и созреть надо. Если бы я решил породниться с ее семейством, мне пришлось бы отказаться от большинства своих привычек, от книг и научных занятий, да и мое общественное положение заметно понизилось бы. Согласен, такие соображения весьма уязвимы для критики, да я и сам себя не оправдываю. Но если уж обвинять меня, то за компанию со мной – и всех моих предков до седьмого колена, а мою наследственность следовало бы счесть смягчающим обстоятельством. В общем, против мезальянса восставала, так сказать, каждая капля моей крови, а кроме того, мои вкусы, привычки, инстинкты и остатки здравомыслия, еще не побежденные любовью. Кроме того, я был неисправимо сентиментален, и в таких вот платонических, надличностных отношениях мне виделась особая прелесть. Мне казалось, что знакомство может их опошлить, а уж брак – разрушит совершенно. Таких женщин, говорил я себе, как это чудесное создание, просто не бывает. Любовь – восхитительный сон; так стоит ли торопить пробуждение?
Из этих соображений следовало сделать вполне определенные практические выводы. Честь, гордость, благоразумие, верность своим идеалам – все требовало, чтобы я поскорее уехал куда-нибудь, но я никак не мог себя заставить. Меня хватило лишь на то, чтобы положить конец нашим встречам. Теперь я выходил из дома после того, как она отправлялась на урок музыки, а возвращался ближе к полночи, чтобы не столкнуться с нею даже случайно. Но все это мало помогло: я был словно в трансе, всеми моими мыслями владела одна-единственная мечта. Ты, друг мой, вряд ли поймешь в каком раю для безумцев я тогда обретался – ведь все твои поступки диктуются здравым смыслом.