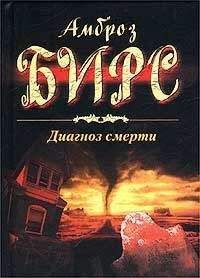– Джон Бартайн, – сказал я ему. – Простите меня, если ошибаюсь, но я не вижу ни малейшего повода яриться, когда у вас всего-то спрашивают время. Когда в моем присутствии человеку приходится пересиливать себя, чтобы взглянуть на циферблат собственных часов, это весьма меня озадачивает. Конечно, ваши эмоции только вас и касаются, но что прикажете думать об этом врачу?
На эту мою диатрибу Бартайн не ответил ни словом; он сидел, сосредоточенно глядя на огонь в камине. Испугавшись, что невзначай обидел его, я уже собрался было извиниться и попросить забыть мои слова, но тут он поднял на меня вполне спокойный взгляд и сказал:
– Мой добрый друг, игривая манера ни в малейшей степени не искупает вопиющую беспардонность вопроса; но я, по счастью, и сам уже решил рассказать вам то, что вам невтерпеж узнать. Правда, вы только что показали, что не заслуживаете моей откровенности, но решения мои тверды. Если вы будете добры уделить мне толику вашего внимания, я объясню, в чем тут дело.
Эти часы, – продолжал он, – принадлежали моим предкам на протяжении трех поколений, а теперь вот достались мне. Их первым владельцем – по его заказу их, собственно, и изготовили – был мой прадед Брамуэлл Олкотт Бартайн, богатый вирджинский плантатор и твердокаменный тори. Он ночей не спал, раздумывая, чем бы еще уязвить мистера Вашингтона и что бы хорошего сделать для доброго короля Георга. Однажды этот достойный джентльмен имел несчастье оказать метрополии немалую услугу, и те, кто на себе ощутил ее результаты, сочли его действия преступными. Сейчас нет толку вспоминать, в чем там было дело, но последствия оказались горьки: однажды ночью банда мятежников мистера Вашингтона ворвалась в дом моего блистательного предка. Ему разрешили проститься с рыдающим семейством, а потом увели в ночь. Больше его никто и никогда не видел, не было даже никаких слухов насчет его судьбы. Тщательные разыскания, предпринятые уже после войны, ничего не дали, не помогло даже обещание большого вознаграждения за любые сведения о нем или хотя бы о тех, кто его арестовал. Он просто исчез; пропал – и все.
Что-то в манере Бартайна, именно в манере, а не в словах – я и сейчас не могу сказать, что именно – заставило меня спросить:
– И как вы расцениваете… такого рода правосудие?
– Я это расцениваю… – Он вспыхнул, судорожно стиснул кулаки и треснул ими по столу, словно играл в каком-нибудь кабаке в кости и вдруг понял, что его нагло обжуливают. – Я расцениваю это как трусливое убийство, весьма, кстати, характерное для проклятого изменника Вашингтона и его банды оборванцев!
Несколько минут мы молчали. Бартайн пытался вернуться в спокойное расположение духа, мне же оставалось только ждать. Потом я спросил:
– И это… все?
– Не все… есть кое-что еще. Через несколько недель после того, как моего прадеда увели, его часы был найдены на парадном крыльце дома. Они лежали в пакете, адресованном Руперту Бартайну – его единственному сыну и моему деду. Вот эти самые часы я и ношу.
Бартайн умолк. Его взгляд, обычно на редкость живой, уперся в камин, в черных глазах плясали красные огненные точки – отражение пламени. Казалось, он напрочь позабыл обо мне. Порыв ветра в ветвях дерева, что стояло за окном, и дождь, тут же застучавший в окно, вернули его к действительности. Непогодь разгулялась всерьез: и пары секунд не прошло, а ливень уже вовсю поливал улицу. Уж не знаю, почему мне все это запомнилось; но теперь кажется, будто все, что тогда было, имело некий смысл, который мне и теперь не под силу понять. Как бы то ни было, стоило начаться буре, – и разговор наш перешел на серьезные тона, даже, пожалуй, торжественные. Бартайн заговорил снова:
– У меня к этим часам странное чувство… своего рода привязанность, что ли. Мне приятно иметь их при себе, но я редко их ношу: во-первых, они тяжеленные, вторую же причину я вам сейчас изложу поподробнее. Дело тут вот в чем: если часы эти при мне, вечером меня неудержимо тянет открыть крышку и взглянуть на циферблат, пусть даже мне ни к чему знать точное время. Когда же я уступаю этому желанию, накатывает неописуемый ужас… предчувствие неминуемой беды. Причем ощущение это тем сильнее, чем ближе к одиннадцати… по этим вот часам, независимо от того, сколько времени на самом деле. Когда же стрелки минуют одиннадцать, желание смотреть на циферблат проходит, и я едва ли не забываю о них. После одиннадцати я могу смотреть на часы сколько угодно, и эмоций у меня при этом не больше, чем у вас, когда вы смотрите на свои. Сами понимаете, я приучил себя не смотреть на эти часы по вечерам, до одиннадцати… ни за что на свете. Вот поэтому я так болезненно отнесся к вашему вопросу. Нечто подобное испытывает, наверное, курильщик опиума, которого силком толкают в его персональную преисподнюю.
Вот и весь мой рассказ. Я сообщил вам все это, друг мой, в интересах вашей так называемой науки, но если в один прекрасный вечер вы увидите меня при этих проклятых часах и вам придет в голову спросить у меня, который час, я, уж простите великодушно, просто поколочу вас.
Не скажу, что его шутка сильно меня развлекла. Мне было совершенно ясно, что он, рассказывая обо всем этом, снова расстроился. Улыбка, с которой он закончил свой рассказ, больше напоминала страдальческую гримасу, взгляд то и дело обегал комнату, и порой в глазах мелькало то характерное выражение, по которому врач способен опознать случай dementia[13]. Возможно, кое-что добавило мое собственное воображение, но я тогда уверился, что мой друг попал во власть довольно редкой и причудливой мономании. Не в ущерб дружеским чувствам я решил взглянуть на него теми глазами, какими врач смотрит на интересного пациента. А почему бы, собственно, и нет? Ведь он сам говорил, что рассказал все это в интересах науки. О-о, мой бедный друг сам не знал, насколько он ценен для медицины, именно он сам, а не только его рассказ. Само собой, я был преисполнен решимости исцелить его, если хватит моих знаний и умений, но сначала следовало провести небольшой психологический эксперимент, который, кстати, мог стать первым шагом на пути к выздоровлению.
– Вы были откровенны, как и подобает настоящему другу, Бартайн, – сказал я со всей сердечностью, на какую был способен. – Честное слово, я польщен вашим доверием. Конечно, все это очень странно. Можно мне получше рассмотреть ваши часы?
Он молча снял с жилета цепочку с часами и всем, что на ней висело, и протянул мне. Корпус у часов был золотой, очень толстый и массивный, украшенный причудливой гравировкой. Внимательно осмотрев циферблат и отметив для себя, что время идет к двенадцати, я открыл заднюю крышку и обнаружил там пластинку из слоновой кости, украшенную миниатюрным живописным портретом, выполненным в той изящной и тонкой манере, которая была модной в восемнадцатом веке.